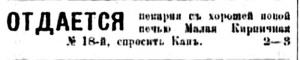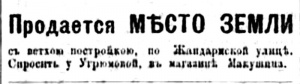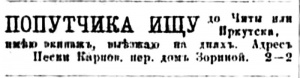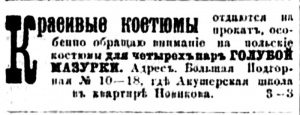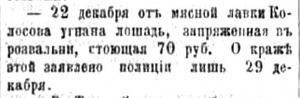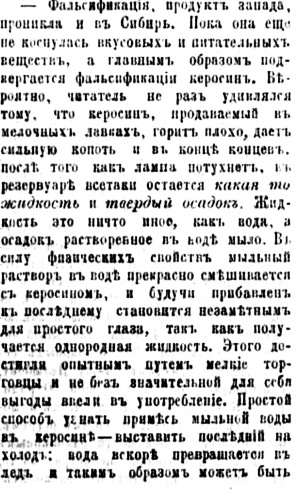На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Аналогично, попался недавно фильм Пржиемского "В горах Саянских".
XIII Выпуск иллюстированного приложения к газете "Сибирская Жизнь" №109
за воскресенье 23-го мая 1904 года
в номере:
- „Алтайскіе ледники".
- Пуляевская П.Г. "Она ушла!" - очередной депрессивный рассказ
- Павла Гавриловна Пуляевская. (Некрологъ).
- Хорошо нам, новолокотковцам, известный человек-улица, сибирский патриот областник, Г.Потанин публикует панегерик на юбилей Якова Соломоновича Медлина "Праздникъ въ томскихъ музыкальныхъ классахъ *). Редакция газеты оговаривается. что всё это мнение автора?!
Двухслойный pdf
pdf без маски
Личность Медлина очень интересная, коренной томич
Интересно было прочесть воспоминание сына ученика Медлина. Как все переплелось!
Со скрипкой наперевес
за воскресенье 23-го мая 1904 года
в номере:
- „Алтайскіе ледники".
Показать спойлер
Въ настоящее время свѣдѣнія объ алтайскихъ ледникахъ представляются болѣе обширными и точными благодаря изслѣдованіямъ профессора ботаники Томскаго университета В. В. Сапожникова, совершившаго на Алтай нѣсколько экскурсій и издавшаго книги „По Алтаю" (дневникъ путешествія 1895 г.). Томскъ 1897 г. in 8°, 127 стр. и „Катунь и ея истоки" (путешествіе 1897 — 1899 годовъ). Томскъ 1901 г. іи 8°, 271 стр. Книги иллюстрированы прекрасными фототипіями, особенно 2-е сочиненіе.
Проф. Сапожникову принадлежитъ честь открытія и начали изслѣдованія большей части Алтайскихъ ледниковъ. Его экскурсіи были не увеселительныя поѣздки, не parties de plaisir, а тяжелыя, полныя лишеній и трудностей странствованія въ горныхъ дебряхъ, вызываемыя и питаемыя научнымъ интересомъ. Трудъ и физическое утомленіе, которые ему пришлось перенести, понятны только тѣмъ, которые лично испытали ихъ, проѣзжал въ некультурной суровой странѣ.
Проф. Сапожникову принадлежитъ честь открытія и начали изслѣдованія большей части Алтайскихъ ледниковъ. Его экскурсіи были не увеселительныя поѣздки, не parties de plaisir, а тяжелыя, полныя лишеній и трудностей странствованія въ горныхъ дебряхъ, вызываемыя и питаемыя научнымъ интересомъ. Трудъ и физическое утомленіе, которые ему пришлось перенести, понятны только тѣмъ, которые лично испытали ихъ, проѣзжал въ некультурной суровой странѣ.
Показать спойлер
- Пуляевская П.Г. "Она ушла!" - очередной депрессивный рассказ
- Павла Гавриловна Пуляевская. (Некрологъ).
Показать спойлер
Послѣ того, какъ рѣшено было напечатать по-мѣщаемый въ настоящемъ приложеніи разсказъ „Она ушла", мы получили извѣстіе о смерти его молодого автора, Павлы Гавриловны Пуляевской, дочери крестьянина Иркутской губерніи. Она училась въ Иркутской гимназіи,.......она хотѣла учиться и рѣшила отправиться въ Петербургъ, чтобы тамъ сдать экзаменъ за гимназическій курсъ и закончить свое образованіе въ высшемъ учебномъ заведеніи......Вѣроятно, подъ вліяніемъ пережитаго, пере-чувствованнаго сердечная болѣзнь обострилась
Показать спойлер
- Хорошо нам, новолокотковцам, известный человек-улица, сибирский патриот областник, Г.Потанин публикует панегерик на юбилей Якова Соломоновича Медлина "Праздникъ въ томскихъ музыкальныхъ классахъ *). Редакция газеты оговаривается. что всё это мнение автора?!
Показать спойлер
10 мая друзья Якова Соломоновича Медлина, директора музыкальныхъ классовъ въ Томскѣ, отпраздновали десятилѣтіе его преподавательской дѣятельности; праздникъ имѣлъ скромный, семейный характеръ. Вечеромъ 10-го мая въ квартирѣ Я. С. Медлина собрались члены совѣта Томскаго отдѣленія Музыкальнаго Общества, нѣсколько членовъ этого общества и постороннихъ лицъ, и наконецъ ученицы и ученики музыкальныхъ классовъ. Скромное торжество было открыто рѣчью секретаря Отдѣленія г. Сабинина (предсѣдатель Отдѣленія г. Соболевъ за день передъ этимъ выѣхалъ изъ Томска въ Россію)
Забавно из Томска в Россию)))
Забавно из Томска в Россию)))
Показать спойлер
Двухслойный pdf
pdf без маски
Личность Медлина очень интересная, коренной томич
Показать спойлер
(из Википедии: (1871, Томск — 27 сентября 1937) — российский скрипач и музыкальный педагог.Начал выступать в 1888 году.Окончил Варшавскую консерваторию, ученик Станислава Барцевича. В 1895 году вернулся в Томск. Концертировал в различных городах Сибири . Преподавал в Томском музыкальном техникуме (в настоящее время — Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова), в 1925—1927 годах возглавлял его; среди учеников Медлина, в частности, А. Л. Марксон, А. П. Новиков. Основал симфонический оркестр техникума и руководил им.
. Преподавал в Томском музыкальном техникуме (в настоящее время — Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова), в 1925—1927 годах возглавлял его; среди учеников Медлина, в частности, А. Л. Марксон, А. П. Новиков. Основал симфонический оркестр техникума и руководил им.
19 июля 1937 г. был арестован, 19 сентября приговорён к расстрелу и через неделю расстрелян. Реабилитирован в июле 1957 г.)
 . Преподавал в Томском музыкальном техникуме (в настоящее время — Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова), в 1925—1927 годах возглавлял его; среди учеников Медлина, в частности, А. Л. Марксон, А. П. Новиков. Основал симфонический оркестр техникума и руководил им.
. Преподавал в Томском музыкальном техникуме (в настоящее время — Томский музыкальный колледж имени Э. В. Денисова), в 1925—1927 годах возглавлял его; среди учеников Медлина, в частности, А. Л. Марксон, А. П. Новиков. Основал симфонический оркестр техникума и руководил им.19 июля 1937 г. был арестован, 19 сентября приговорён к расстрелу и через неделю расстрелян. Реабилитирован в июле 1957 г.)
Показать спойлер
Интересно было прочесть воспоминание сына ученика Медлина. Как все переплелось!
Со скрипкой наперевес
Показать спойлер
Вскоре после того, как красные изгнали Колчака из Красноярска, где жили родители моей бабушки по отцовской линии, на семейном совете было решено ехать в Америку. Мой прадед Аврум Ланис был одним из богатейших купцов еврейской общины этого города. И вот, в 1920 году трое его сыновей - бабушкиных братьев, через Харбин уехали в Сан-Франциско на разведку. Через три с лишним года старший из них, дядя Моня, вернулся обратно в Красноярск, чтобы перевезти за океан всю семью.
В это время НЭП был в расцвете, дела у семейства Ланисов шли очень неплохо. Мой прадед с оставшимся в Красноярске сыном Хоной торговал рыбой: дальневосточным лососем и байкальским омулем. Тогда они могли позволить себе, усаживаясь за стол, есть ложками красную икру, приправляя ее вареной картошкой.
Мои бабушка с дедушкой и детьми жили в то время в Томске, где они имели лавку и торговали обувью, в основном пимами, как называют валенки в Сибири. Торговля процветала. Дедушка купил большой трехэтажный кирпичный дом, дети учились в школе, а младший сын - мой будущий отец, брал еще уроки игры на скрипке.
Тем не менее все были готовы ехать, но пока можно было зарабатывать неплохие деньги, считали, что "нужно сделать еще один оборот". А потом еще один и еще один. "Дооборачивались" до тех пор, пока не закрыли границу. А вскоре после этого начали искоренять нэпманов. Отняли все. Дядя Моня так и остался в Красноярске и всю оставшуюся жизнь боялся страшного пятна в своей биографии - трехлетнего проживания в Америке.
В Томске семью моего дедушки с тремя несовершеннолетними детьми просто выгнали на улицу, забрав дом и все имущество. Семья бедствовала. С большим трудом папе удалось в сентябре 1928 года поступить в Томский государственный музыкальный техникум. Больше никуда его, сына пораженного в правах лишенца, не принимали, хотя он мечтал учиться в институте, чтобы стать инженером. За время учебы его трижды исключали из техникума на том основании, что он классово чуждый элемент. Лишь после долгих унижений и мучений, мытарств и нервотрепки ему удалось его окончить училище по исполнительскому отделению. Ему шел тогда 22-й год. Я помню, с какой болью рассказывал он о том времени. Но только сейчас я могу правильно оценить то, что он говорил. Ведь он подвергался гонениям и унижениям, когда, собственно говоря, был мальчишкой, таким, как мой собственный сын сейчас.
Единственным светлым воспоминанием о годах учебы в техникуме остался папин педагог по классу скрипки Яков Соломонович Медлин. Папа часто его вспоминал и всегда отзывался о нем с нежностью и большим уважением.
Судьба этого блестящего музыканта и незаурядного педагога сама по себе заслуживает внимания. В 1888 году совсем юношей он впервые предстал перед томской публикой в концерте. Юный Яша Медлин был замечен. В газетах Томска появились статьи, в которых поднимался вопрос о дальнейшем образовании молодго дарования. Упор делался на то, что Я.Медлин - сибиряк по рождению, и родина должна ему помочь. Призывы были услышаны. Благодаря нескольким благотоврительным концертам было собрано 300 рублей. На эти деньги он уехал в Варшаву, поступил там в консерваторию, а затем блестяще ее окончил. Вернувшись в родной город прекрасным музыкантом, он стал одним из выдающихся деятелей томской культуры. Но в треклятом 1937 году он был арестован, оклеветан и расстрелян.
Еще до окончания техникума папа начал работать. Обладая хорошими организаторскими способностями и отлично владея инструментом, он в 1933 году создал музыкальный ансамбль, с которым в качестве руководителя ездил по городам Сибири. Чаще всего они выступали в фойе кинотеатров или сопровождали демонстрацию немых кинофильмов исполнением музыкальных пьес. До сих пор у нас дома хранится большая афиша 1934 года, напечатанная на грубой серой бумаге. На ней анонсируется кинокомедия "Когда пробуждаются мертвые" с Игорем Ильинским в главной роли. И там же сделана крупная приписка: "Картину иллюстрирует специально приглашенный из гор. Томска музыкальный ансамбль под руководством скрипача Рубина Л.А. Во время звуковых картин музыкальный ансамбль работает в фойе".
Старший папин брат Соломон, для того чтобы получить образование, был вынужден публично отказаться от родителей. Он уехал в Бурятию и устроился там на какую-то стройку, чтобы заработать себе пролетарский стаж. Он нужен был ему для получения возможности выехать за границу. Со своей семьей на деле он, конечно, не порывал. Из Бурятии Соломон уехал в Харбин, где окончил политехнический институт, став инженером-электриком. Ему предлагали работу в Австралии, но в Советском Союзе у него были родители, брат и сестра. И он вернулся домой, в Новосибирск, куда к тому времени все они переехали. В 1937 году его арестовали, объявили японским шпионом и расстреляли.
Жили они все вместе, и папа на всю жизнь запомнил ту страшную ночь, когда к ним в дом вломились чекисты и увели его брата. Моему дяде Моне было тогда всего 28 лет, он даже не успел жениться. Так мой отец стал братом врага народа. Он потом сам каждую ночь ожидал ареста. В 1956 году Соломон Рубин был полностью реабилитирован. Моих дедушки и бабушки к этому времени уже давно не было в живых. Да и каким утешением это могло бы быть для них?
В 1938 году папа женился. В первые два предвоенных года появились мы с сестрой.
На второй день после нападения фашистской Германии на СССР папа был призван в армию. Он попал рядовым в пехоту. Был ранен в боях где-то под Смоленском. Осенью 1942 года его забрали в ансамбль 385-й стрелковой дивизии. С этим ансамблем он прошел всю войну. Со скрипкой наперевес - как он любил шутить.
Потом папа часто рассказывал мне истории из своей фронтовой жизни. О том, как участникам ансамбля нередко по-пластунски с музыкальными инструментами в руках вместо оружия приходилось преодолевать обстреливаемые участки, чтобы попасть на передовую и выступить перед солдатами. Или о том, как машина, на которой они ехали на концерт, подорвалась на мине. Артисты находились в кузове, и папа сидел на скамейке около водительской кабины. В ансамбле была певица, ей досталось место ближе к заднему борту. По дороге она стала жаловаться, что ее скамейку сильно трясет на ухабах. Папа поменялся с ней местами. Через несколько минут после этого машина подорвалась. Певица погибла на месте, а папа был тяжело контужен и ранен осколком мины, но остался жив. Судьба.
Хочу процитировать несколько строк из статьи старшего лейтенанта И.Семенова, опубликованной в одном из выпусков фронтовой газеты "Чекист на страже" за 1943 год: "Две грузовых автомашины, плотно прижатые друг к другу раскрытыми кузовами, – сцена; доски, положенные на чурбаны и пни, – сиденья для зрителей; широкая липовая аллея – театр. Это еще улучшенный, можно сказать "роскошный" вариант театра, в котором сегодня выступает концертная бригада ансамбля красноармейской песни и пляски пограничных войск нашего фронта. В каких только условиях ей не приходится работать". И несколько ниже: "Особо стоит отметить первую скрипку Леонида Рубина. Сольные выступления скрипача Рубина окончательно убеждают, что в его лице ансамбль имеет талантливого и трудолюбивого мастера". Вырезка из газеты с этой статьей хранится в нашем семейном архиве вместе со многими, сложенными в виде треугольников, папиными письмами с фронта.
Хранились у нас и два экземпляра газеты "За Сталина" прославленной 385-й Кричевской стрелковой дивизии от 13 октября и 21 ноября 1942 года, в которых были напечатаны небольшие заметки о замечательном музыканте и смелом солдате Леониде Рубине. Оба этих единственных сохранившихся экземпляра газеты в конце 60-х годов были переданы папой в Музей боевой славы города Фрунзе, где дивизия формировалась. Газет того времени вообще сохранилось очень мало, так как после прочтения они использовались на самокрутки.
Демобилизовался папа в октябре 1945 года в звании старшего сержанта. И с этого момента он всю жизнь до выхода на пенсию одновременно работал в двух, а иногда и трех местах, чтобы прокормить семью. Дольше всего такую двойную лямку он тянул в Новосибирске. Поначалу он работал в симфоническом оркестре новосибирской филармонии и в музыкальной школе, потом перешел в педучилище преподавателем по классу скрипки, а по вечерам играл в кинотеатре им. Маяковского, где руководил оркестром. В те послевоенные годы в фойе кинотеатров перед началом сеансов выступали музыкальные коллективы с разными концертными программами. Но чтобы составить и постоянно обновлять такую программу, требовались очень большие усилия, так как ноты с новыми музыкальными пьесами и песнями достать было практически невозможно. Папа вел обширную переписку со многими композиторами. Особенно часто он получал произведения от Оскара Строка. Потом он сам их оркестровал, до поздней ночи засиживаясь над нотными тетрадями, а мама помогала ему переписывать партии для каждого инструмента в его оркестре: рояля, кларнета, трубы, тромбона.
Из-за постоянной занятости у папы было совсем мало свободного времени, поэтому я хорошо помню те редкие минуты, когда он мог побыть с нами. Мы с сестрой очень любили слушать его сказку про Червяка, которую в разных вариантах "по многочисленным просьбам слушателей" он много раз нам рассказывал. Червяк жил в горькой редьке и думал, что слаще ее нет ничего на свете. Однако однажды, высунувшись из своего жилища, он услышал от соседа, что морковка, растущая на соседней грядке, гораздо вкуснее. Долго не мог поверить Червяк, что есть что-то лучше его редьки. Однако после длительных колебаний он все же решился перебраться на новое место жительства. Нам нравилось слушать, как червяк укладывал вещи в чемоданы, брал с собой патефон и комод и все это перетаскивал в новое жилище. Ну и, наконец, мы радовались за Червяка, когда он, распробовав морковку, понял, что почти всю жизнь прожил в горькой редьке.
Мудрая сказка. И очень подходит к истории с моей эмиграцией, на которую я тоже очень долго не мог решиться.
В 1960 году наша семья переехала в столицу Киргизии город Фрунзе. И там папа работал в двух местах, да умудрился еще создать любительский симфонический ансамбль при Дворце культуры завода сельскохозяйственного машиностроения им. Фрунзе. Я тоже в нем играл на скрипке. "Первый в Киргизии симфонический любительский оркестр создан во Фрунзе при заводе сельскохозяйственных машин. В его репертуаре произведения Бетховена, Шуберта, Лядова. Руководит коллективом большой энтузиаст пропаганды музыки Л.Рубин", - писала газета "Советская культура" от 21 ноября 1961 года.
Папа умер, не дожив четырех дней до своего восьмидесятилетия. С тех пор прошло уже больше десяти лет. Но я вспоминаю его очень, очень часто. Он был прекрасным семьянином, великим тружеником, мудрым, порядочным и добрым человеком, любил маму и меня с сестрой, обожал жизнь, несмотря на все тяготы, выпавшие на его долю. И я благодарен судьбе за то, что она подарила мне такого отца и жалею, что был скуповат на выражение своей любви к нему при его жизни.
7 Борис Рубин, Нью-Йорк
21-07-2003 web-страница
В это время НЭП был в расцвете, дела у семейства Ланисов шли очень неплохо. Мой прадед с оставшимся в Красноярске сыном Хоной торговал рыбой: дальневосточным лососем и байкальским омулем. Тогда они могли позволить себе, усаживаясь за стол, есть ложками красную икру, приправляя ее вареной картошкой.
Мои бабушка с дедушкой и детьми жили в то время в Томске, где они имели лавку и торговали обувью, в основном пимами, как называют валенки в Сибири. Торговля процветала. Дедушка купил большой трехэтажный кирпичный дом, дети учились в школе, а младший сын - мой будущий отец, брал еще уроки игры на скрипке.
Тем не менее все были готовы ехать, но пока можно было зарабатывать неплохие деньги, считали, что "нужно сделать еще один оборот". А потом еще один и еще один. "Дооборачивались" до тех пор, пока не закрыли границу. А вскоре после этого начали искоренять нэпманов. Отняли все. Дядя Моня так и остался в Красноярске и всю оставшуюся жизнь боялся страшного пятна в своей биографии - трехлетнего проживания в Америке.
В Томске семью моего дедушки с тремя несовершеннолетними детьми просто выгнали на улицу, забрав дом и все имущество. Семья бедствовала. С большим трудом папе удалось в сентябре 1928 года поступить в Томский государственный музыкальный техникум. Больше никуда его, сына пораженного в правах лишенца, не принимали, хотя он мечтал учиться в институте, чтобы стать инженером. За время учебы его трижды исключали из техникума на том основании, что он классово чуждый элемент. Лишь после долгих унижений и мучений, мытарств и нервотрепки ему удалось его окончить училище по исполнительскому отделению. Ему шел тогда 22-й год. Я помню, с какой болью рассказывал он о том времени. Но только сейчас я могу правильно оценить то, что он говорил. Ведь он подвергался гонениям и унижениям, когда, собственно говоря, был мальчишкой, таким, как мой собственный сын сейчас.
Единственным светлым воспоминанием о годах учебы в техникуме остался папин педагог по классу скрипки Яков Соломонович Медлин. Папа часто его вспоминал и всегда отзывался о нем с нежностью и большим уважением.
Судьба этого блестящего музыканта и незаурядного педагога сама по себе заслуживает внимания. В 1888 году совсем юношей он впервые предстал перед томской публикой в концерте. Юный Яша Медлин был замечен. В газетах Томска появились статьи, в которых поднимался вопрос о дальнейшем образовании молодго дарования. Упор делался на то, что Я.Медлин - сибиряк по рождению, и родина должна ему помочь. Призывы были услышаны. Благодаря нескольким благотоврительным концертам было собрано 300 рублей. На эти деньги он уехал в Варшаву, поступил там в консерваторию, а затем блестяще ее окончил. Вернувшись в родной город прекрасным музыкантом, он стал одним из выдающихся деятелей томской культуры. Но в треклятом 1937 году он был арестован, оклеветан и расстрелян.
Еще до окончания техникума папа начал работать. Обладая хорошими организаторскими способностями и отлично владея инструментом, он в 1933 году создал музыкальный ансамбль, с которым в качестве руководителя ездил по городам Сибири. Чаще всего они выступали в фойе кинотеатров или сопровождали демонстрацию немых кинофильмов исполнением музыкальных пьес. До сих пор у нас дома хранится большая афиша 1934 года, напечатанная на грубой серой бумаге. На ней анонсируется кинокомедия "Когда пробуждаются мертвые" с Игорем Ильинским в главной роли. И там же сделана крупная приписка: "Картину иллюстрирует специально приглашенный из гор. Томска музыкальный ансамбль под руководством скрипача Рубина Л.А. Во время звуковых картин музыкальный ансамбль работает в фойе".
Старший папин брат Соломон, для того чтобы получить образование, был вынужден публично отказаться от родителей. Он уехал в Бурятию и устроился там на какую-то стройку, чтобы заработать себе пролетарский стаж. Он нужен был ему для получения возможности выехать за границу. Со своей семьей на деле он, конечно, не порывал. Из Бурятии Соломон уехал в Харбин, где окончил политехнический институт, став инженером-электриком. Ему предлагали работу в Австралии, но в Советском Союзе у него были родители, брат и сестра. И он вернулся домой, в Новосибирск, куда к тому времени все они переехали. В 1937 году его арестовали, объявили японским шпионом и расстреляли.
Жили они все вместе, и папа на всю жизнь запомнил ту страшную ночь, когда к ним в дом вломились чекисты и увели его брата. Моему дяде Моне было тогда всего 28 лет, он даже не успел жениться. Так мой отец стал братом врага народа. Он потом сам каждую ночь ожидал ареста. В 1956 году Соломон Рубин был полностью реабилитирован. Моих дедушки и бабушки к этому времени уже давно не было в живых. Да и каким утешением это могло бы быть для них?
В 1938 году папа женился. В первые два предвоенных года появились мы с сестрой.
На второй день после нападения фашистской Германии на СССР папа был призван в армию. Он попал рядовым в пехоту. Был ранен в боях где-то под Смоленском. Осенью 1942 года его забрали в ансамбль 385-й стрелковой дивизии. С этим ансамблем он прошел всю войну. Со скрипкой наперевес - как он любил шутить.
Потом папа часто рассказывал мне истории из своей фронтовой жизни. О том, как участникам ансамбля нередко по-пластунски с музыкальными инструментами в руках вместо оружия приходилось преодолевать обстреливаемые участки, чтобы попасть на передовую и выступить перед солдатами. Или о том, как машина, на которой они ехали на концерт, подорвалась на мине. Артисты находились в кузове, и папа сидел на скамейке около водительской кабины. В ансамбле была певица, ей досталось место ближе к заднему борту. По дороге она стала жаловаться, что ее скамейку сильно трясет на ухабах. Папа поменялся с ней местами. Через несколько минут после этого машина подорвалась. Певица погибла на месте, а папа был тяжело контужен и ранен осколком мины, но остался жив. Судьба.
Хочу процитировать несколько строк из статьи старшего лейтенанта И.Семенова, опубликованной в одном из выпусков фронтовой газеты "Чекист на страже" за 1943 год: "Две грузовых автомашины, плотно прижатые друг к другу раскрытыми кузовами, – сцена; доски, положенные на чурбаны и пни, – сиденья для зрителей; широкая липовая аллея – театр. Это еще улучшенный, можно сказать "роскошный" вариант театра, в котором сегодня выступает концертная бригада ансамбля красноармейской песни и пляски пограничных войск нашего фронта. В каких только условиях ей не приходится работать". И несколько ниже: "Особо стоит отметить первую скрипку Леонида Рубина. Сольные выступления скрипача Рубина окончательно убеждают, что в его лице ансамбль имеет талантливого и трудолюбивого мастера". Вырезка из газеты с этой статьей хранится в нашем семейном архиве вместе со многими, сложенными в виде треугольников, папиными письмами с фронта.
Хранились у нас и два экземпляра газеты "За Сталина" прославленной 385-й Кричевской стрелковой дивизии от 13 октября и 21 ноября 1942 года, в которых были напечатаны небольшие заметки о замечательном музыканте и смелом солдате Леониде Рубине. Оба этих единственных сохранившихся экземпляра газеты в конце 60-х годов были переданы папой в Музей боевой славы города Фрунзе, где дивизия формировалась. Газет того времени вообще сохранилось очень мало, так как после прочтения они использовались на самокрутки.
Демобилизовался папа в октябре 1945 года в звании старшего сержанта. И с этого момента он всю жизнь до выхода на пенсию одновременно работал в двух, а иногда и трех местах, чтобы прокормить семью. Дольше всего такую двойную лямку он тянул в Новосибирске. Поначалу он работал в симфоническом оркестре новосибирской филармонии и в музыкальной школе, потом перешел в педучилище преподавателем по классу скрипки, а по вечерам играл в кинотеатре им. Маяковского, где руководил оркестром. В те послевоенные годы в фойе кинотеатров перед началом сеансов выступали музыкальные коллективы с разными концертными программами. Но чтобы составить и постоянно обновлять такую программу, требовались очень большие усилия, так как ноты с новыми музыкальными пьесами и песнями достать было практически невозможно. Папа вел обширную переписку со многими композиторами. Особенно часто он получал произведения от Оскара Строка. Потом он сам их оркестровал, до поздней ночи засиживаясь над нотными тетрадями, а мама помогала ему переписывать партии для каждого инструмента в его оркестре: рояля, кларнета, трубы, тромбона.
Из-за постоянной занятости у папы было совсем мало свободного времени, поэтому я хорошо помню те редкие минуты, когда он мог побыть с нами. Мы с сестрой очень любили слушать его сказку про Червяка, которую в разных вариантах "по многочисленным просьбам слушателей" он много раз нам рассказывал. Червяк жил в горькой редьке и думал, что слаще ее нет ничего на свете. Однако однажды, высунувшись из своего жилища, он услышал от соседа, что морковка, растущая на соседней грядке, гораздо вкуснее. Долго не мог поверить Червяк, что есть что-то лучше его редьки. Однако после длительных колебаний он все же решился перебраться на новое место жительства. Нам нравилось слушать, как червяк укладывал вещи в чемоданы, брал с собой патефон и комод и все это перетаскивал в новое жилище. Ну и, наконец, мы радовались за Червяка, когда он, распробовав морковку, понял, что почти всю жизнь прожил в горькой редьке.
Мудрая сказка. И очень подходит к истории с моей эмиграцией, на которую я тоже очень долго не мог решиться.
В 1960 году наша семья переехала в столицу Киргизии город Фрунзе. И там папа работал в двух местах, да умудрился еще создать любительский симфонический ансамбль при Дворце культуры завода сельскохозяйственного машиностроения им. Фрунзе. Я тоже в нем играл на скрипке. "Первый в Киргизии симфонический любительский оркестр создан во Фрунзе при заводе сельскохозяйственных машин. В его репертуаре произведения Бетховена, Шуберта, Лядова. Руководит коллективом большой энтузиаст пропаганды музыки Л.Рубин", - писала газета "Советская культура" от 21 ноября 1961 года.
Папа умер, не дожив четырех дней до своего восьмидесятилетия. С тех пор прошло уже больше десяти лет. Но я вспоминаю его очень, очень часто. Он был прекрасным семьянином, великим тружеником, мудрым, порядочным и добрым человеком, любил маму и меня с сестрой, обожал жизнь, несмотря на все тяготы, выпавшие на его долю. И я благодарен судьбе за то, что она подарила мне такого отца и жалею, что был скуповат на выражение своей любви к нему при его жизни.
7 Борис Рубин, Нью-Йорк
21-07-2003 web-страница
Показать спойлер
XIV Выпуск иллюстрированного приложения к газете "Сибирская Жизнь" №120
за воскресенье 6-го июня 1904 года
в номере:
И снова человек-улица нашего милого городка
- Къ десятилѣтію со дня смерти H. М. Ядринцева.
- В. Антова. "Темная, темная ночь!" стихи (так себе)
- Алеевъ "Барымтачи" (конокрад) рассказ приятный такой...
- Заштатный городъ Колывань (очерк)
Двухслойный pdf
pdf без маски
за воскресенье 6-го июня 1904 года
в номере:
И снова человек-улица нашего милого городка
- Къ десятилѣтію со дня смерти H. М. Ядринцева.
Показать спойлер
Прошло десятилѣтіе послѣ смерти сибиряка- писателя и общественнаго дѣятеля, въ теченіе долгаго періода времени стоявшаго во главѣ лучшей части сибирской интеллигенціи, вожака ея и выразителя наиболѣе прогрессивныхъ стремленій ея въ отношеніи обязанностей къ обширной русской области. Голосъ Ядринцева замолкъ, но собранные имъ матеріалы и его идеи, вы- сказанныя имъ въ капитальныхъ литературныхъ трудахъ, въ массѣ журнальныхъ и газетныхъ статей, остаются общимъ достояніемъ, представляющимъ богатый источникъ, изъ котораго сибирская интеллигенція можетъ почерпнуть много фактовъ и аргументовъ для проведенія и защиты своихъ desiderata......Достаточно взять его самое капитальное сочиненіе „Сибирь какъ колонія", появившееся въ 1882 году, переведенное при указаніяхъ и дополненіяхъ Ядринцева на нѣмецкій языкъ покойнымъ проф. Петри въ І886 году и повторенное въ 1892 году въ русскомъ изданіи Ядринцевымъ, сдѣлавшимъ не только обширныя дополненія, но и переработавшимъ нѣкоторыя главы этого труда въ 720 страницъ іn 8%.
Это книга была въ свое время такъ сказать энциклопедіей сибиревѣденія и до сихъ поръ сохраняетъ интересъ и репутацію наиболѣе полнаго талантливо написаннаго сочиненія о Сибири,—Книга эта составлена изъ ряда журнальныхъ статей покойнаго писателя. Приходится удивляться его трудоспособности и талантливости, если принять во вниманіе тѣ условія, при которыхъ необладавшему матеріальными средствами автору приходилось работать, сплошь и рядомъ не имѣя подъ руками болѣе или менѣе.........Открытіе сибирскаго университета тѣсно связано съ именемъ Ядринцева. Мысль о немъ онъ пропагандировалъ и лелѣялъ съ юныхъ лѣтъ, и его горячія статьи и бесѣды съ вліятельными лицами имѣли громадное значеніе въ разрѣшеніи университетскаго сибирскаго вопроса
....Вотъ что говорилъ Ядринцевъ 26 октября 1881 г. въ Петербургѣ на обѣдѣ, по случаю 300-лѣтія покоренія Сибири:
„Кто изъ насъ, связанныхъ съ краемъ всѣми симпатіями души своей, не сознаетъ жизненныхъ потребностей этого доселѣ печальнаго и забытаго края? Кто въ состояніи болѣе насъ прочувствовать важность настоящей исторической минуты?
Мы призываемъ пробужденіе Сибири всѣми силами нашей души! Судьба Сибири при всѣхъ перемѣнахъ исторіи была близка и дорога живущимъ въ ней, какъ связаннымъ съ ней узами родства.
Если обстоятельства не всегда позволяли намъ принести въ пользу ея нашу слабую помощь, то мы глубоко вѣровали въ ея лучшіе дни и будущее счастье".....Ядринцевскіе четверги въ Петербургѣ въ 80-хъ годахъ собирали и объединяли сибирскую жившую тамъ молодежь. Ядринцевъ смотрѣлъ на нее, какъ на контингентъ будущихъ работ- никовъ родины и своимъ убѣжденнымъ словомъ старался внѣдрять въ молодомъ сибирскомъ поколѣніи любовь къ Сибири и сознаніе общественныхъ передъ ней обязанностей. Ядринцевъ былъ патріотомъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Скорѣе всего его можно назвать патріотомъ-гуманистомъ.
Это книга была въ свое время такъ сказать энциклопедіей сибиревѣденія и до сихъ поръ сохраняетъ интересъ и репутацію наиболѣе полнаго талантливо написаннаго сочиненія о Сибири,—Книга эта составлена изъ ряда журнальныхъ статей покойнаго писателя. Приходится удивляться его трудоспособности и талантливости, если принять во вниманіе тѣ условія, при которыхъ необладавшему матеріальными средствами автору приходилось работать, сплошь и рядомъ не имѣя подъ руками болѣе или менѣе.........Открытіе сибирскаго университета тѣсно связано съ именемъ Ядринцева. Мысль о немъ онъ пропагандировалъ и лелѣялъ съ юныхъ лѣтъ, и его горячія статьи и бесѣды съ вліятельными лицами имѣли громадное значеніе въ разрѣшеніи университетскаго сибирскаго вопроса
....Вотъ что говорилъ Ядринцевъ 26 октября 1881 г. въ Петербургѣ на обѣдѣ, по случаю 300-лѣтія покоренія Сибири:
„Кто изъ насъ, связанныхъ съ краемъ всѣми симпатіями души своей, не сознаетъ жизненныхъ потребностей этого доселѣ печальнаго и забытаго края? Кто въ состояніи болѣе насъ прочувствовать важность настоящей исторической минуты?
Мы призываемъ пробужденіе Сибири всѣми силами нашей души! Судьба Сибири при всѣхъ перемѣнахъ исторіи была близка и дорога живущимъ въ ней, какъ связаннымъ съ ней узами родства.
Если обстоятельства не всегда позволяли намъ принести въ пользу ея нашу слабую помощь, то мы глубоко вѣровали въ ея лучшіе дни и будущее счастье".....Ядринцевскіе четверги въ Петербургѣ въ 80-хъ годахъ собирали и объединяли сибирскую жившую тамъ молодежь. Ядринцевъ смотрѣлъ на нее, какъ на контингентъ будущихъ работ- никовъ родины и своимъ убѣжденнымъ словомъ старался внѣдрять въ молодомъ сибирскомъ поколѣніи любовь къ Сибири и сознаніе общественныхъ передъ ней обязанностей. Ядринцевъ былъ патріотомъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Скорѣе всего его можно назвать патріотомъ-гуманистомъ.
Показать спойлер
- В. Антова. "Темная, темная ночь!" стихи (так себе)
- Алеевъ "Барымтачи" (конокрад) рассказ приятный такой...
Показать спойлер
День догоралъ, окрашивая поблекшую, выжженную степь въ розовые цвѣта зари. Эта кипцовая степь то разстилалась широко и лѣниво слегка волнующимися гривами, горѣвшими румянцемъ подъ прощальнымъ поцѣлуемъ солнца, то убѣгала вдаль крутыми скачками — увалами, обнаженные гребни которыхъ словно побагровѣли отъ досады на покидающее ихъ солнце.
Далеко, далеко на границѣ неба и крутыхъ уваловъ уходили въ высь хмурыя горы, своими синими вершинами раздвинувшія безбрежное небо.
Со стороны Иртыша показались двѣ черныя точки. Точки подвигались и росли, и наконецъ обратились въ двухъ всадниковъ-киргизъ на рослыхъ сѣрыхъ жеребцахъ.
Киргизы одѣты были почти одинаково. Грязные красные платки плотно обтягивали ихъ бритыя головы. Сѣрые стоженные бешметы были зачембарены въ кожаные чембары, заправленные въ большіе сапоги. Слѣва, свѣсясь съ руки, волочились длинные соилы.
Передній, лѣтъ 35 киргизъ, худощавый и нервный, зорко осматривалъ степь глубоко сидящими, черными глазами, какъ ястребъ, готовый кинуться или отлетѣть. На поясѣ у него висѣла айбалта и связка чембуровъ,
Задній былъ еще юноша, безпечно шпорившій коня и нетерпѣливо посматривавшій впередъ задорными молодыми глазами....
Далеко, далеко на границѣ неба и крутыхъ уваловъ уходили въ высь хмурыя горы, своими синими вершинами раздвинувшія безбрежное небо.
Со стороны Иртыша показались двѣ черныя точки. Точки подвигались и росли, и наконецъ обратились въ двухъ всадниковъ-киргизъ на рослыхъ сѣрыхъ жеребцахъ.
Киргизы одѣты были почти одинаково. Грязные красные платки плотно обтягивали ихъ бритыя головы. Сѣрые стоженные бешметы были зачембарены въ кожаные чембары, заправленные въ большіе сапоги. Слѣва, свѣсясь съ руки, волочились длинные соилы.
Передній, лѣтъ 35 киргизъ, худощавый и нервный, зорко осматривалъ степь глубоко сидящими, черными глазами, какъ ястребъ, готовый кинуться или отлетѣть. На поясѣ у него висѣла айбалта и связка чембуровъ,
Задній былъ еще юноша, безпечно шпорившій коня и нетерпѣливо посматривавшій впередъ задорными молодыми глазами....
Показать спойлер
- Заштатный городъ Колывань (очерк)
Показать спойлер
Едва ли оніо найдется въ Сибири такой городокъ, который бы прошелъ со времени своего основанія такія различныя стадіи административныя и экономическія.— какъ Колывань. Будучи основанъ въ ту эпоху движенія на Востокъ, за Уралъ, піонеровъ русской народности и культуры, которому далъ толчекъ Ер- макъ,—Колыванъ изъ простого острожка, былъ даже нѣкоторое время алмини- стративнымъ центромъ тогдашней Сибирской губерніи; затѣмъ уѣзднымъ, в въ болѣе позднее время переименованъ уже былъ въ заштатный, въ этомъ плачевномъ званіи находится и посейчасъ...
Показать спойлер
Двухслойный pdf
pdf без маски
XV Выпуск иллюстрированного приложения к газете "Сибирская Жизнь" №132
за воскресенье 20-го юня 1904 года
в номере:
Въ Усинскій Край. 4. Внизъ по Енисею на плоту.
(Окончаніе,— см. иллюстр. прилож, къ № 99).
- Обыкновенная исторія. (очередной грустный рассказ про нашу славную Столыпинскую реформу переселенческую)
Вот интересно какой смысл было давать переселенцам в Сибири плохие земли и неугодья? Чтобы плодить обратно нищету?
Двухслойный pdf
pdf без маски
за воскресенье 20-го юня 1904 года
в номере:
Въ Усинскій Край. 4. Внизъ по Енисею на плоту.
(Окончаніе,— см. иллюстр. прилож, къ № 99).
Показать спойлер
Вспѣненный потокъ принимаетъ крутое паденіе и идетъ высокими волнами. Вотъ эти-то волны и смываютъ и лошадей, и людей. Одного неосторожнаго путника смыла громадная волна въ самомъ порогѣ, гибель, казалось, была неминуема, но другая, обратная волна выбросила его обратно на плотъ. Въ память этого спасенія поставлена на берегу часовня, которая бѣлѣетъ между гранитными глыбами.
Мы медленно подплываемъ, къ порогу при постоянной командѣ лоцмана и работѣ гребцовъ; нужно теперь же направить плотъ въ надлежащую струю, а въ порогѣ уже ничего не подѣлаешь!
Мы медленно подплываемъ, къ порогу при постоянной командѣ лоцмана и работѣ гребцовъ; нужно теперь же направить плотъ въ надлежащую струю, а въ порогѣ уже ничего не подѣлаешь!
Показать спойлер
- Обыкновенная исторія. (очередной грустный рассказ про нашу славную Столыпинскую реформу переселенческую)
Показать спойлер
Марилька смутно помнила свою родную „Виленьску" губернію. Ей мерещился иногда, какъ сонъ— спутанный и полузабытый, — густо разросшійся Яблоновый садъ кругомъ ихъ маленькой хатки. Вѣтви деревъ лѣзли въ крошечныя оконца отчего въ избушкѣ лѣтомъ былъ зеленый полумракъ, а весной, когда отворяли окна, земляной полъ покрывался душистыми нѣжно-розоватыми лепестками цвѣтущихъ яблонь.
И позднѣе, въ Сибири, жуя невкусную, выросшую „на мокринахъ" картошку, Марилька вспоминала виленскія сладкія яблоки, которыя они—ребятишки ѣли съ мякиннымъ хлѣбомъ.
Правда яблоки доставались имъ только съ изъяномъ: съ червоточиной, надклеванныя птицей (хорошія берегли для продажи), нo Maрилькѣ казалось, что, какъ между этими яблоками и постылой картошкой, такъ и между „Виленьской“ губерніей и Сибирью не можетъ быть никакого сравненія. Хлѣбъ тамъ Марилькинъ отецъ не сѣялъ; слишкомъ малъ былъ арендованный имъ участокъ у пана и весь этотъ участокъ былъ подъ садомъ.
Да и урожаи тамъ были плохіе; собственно урожаевъ и не было, а были каждый годъ только "виды на урожай". Уже къ половинѣ лѣта выяснялось, что на поляхъ неудобренныхъ, еле всковырянныхъ орудіями временъ Ольгерда, хорошихъ хлѣбовъ ждать нечего и мужики предпочитали батрачить на благоустроенныхъ фольваркахъ и мызахъ. Между тѣмъ семья у отца Марильки росла, жена часто хворала, садъ давалъ очень мало, я жить становилось все труднѣй и труднѣй. Сколько мужикъ ни работалъ, всегда выходило такъ, что то ковригу хлѣба надо было „поживать" (занять) у сосѣда, то чашку соли, а сaмого его періодически тянули „у волость" для непріятныхъ объясненій по поводу недоимокъ.
И мужикъ рѣшился на переселеніе. Стали сразу собираться нѣсколько семей. Такова сила стадности: недоѣдали, голодали года и всѣ сидѣли на насиженныхъ мѣстахъ. Когда же одинъ заявилъ, что питаться мякиннымъ хлѣбомъ больше не хочетъ, батрачить по чужимъ мызамъ не желаетъ— всѣ загалдѣли о далекой Сибири, о споемъ падѣлѣ, о вольныхъ земляхъ.
Много горя приняли Виленскіе мужики, пока добрались до Челябинска и N-cka. Въ грязныхъ вагонахъ ихъ было набито, какъ сельдей въ бочкѣ. Хворали ребятишки и много ихъ было схоронено въ разныхъ пунктахъ длинной дороги. Проѣлись въ конецъ, и бабы съ воемъ продавали за безцѣнокъ домашній холстины. Въ Челябинскѣ партію пощипали сибирскіе мазурики —украли нѣсколько мѣшковъ съ рухлядью... Наконецъ, всѣ мытарства кончились, кончилось распостылое житье въ баракахъ и Марилькинъ отець съ партіей получили надѣлы.
Вышла только маленькая канцелярская ошибка: по межевымъ планамъ участки были хоть куда, а на самомъ дѣлѣ оказались они достаточно гиблымъ мѣстомъ. Мокрицы, да низины давали скудные урожаи, не родились даже хорошія травы, не было хорошихъ сѣновъ: рѣпьяки, да осоки— куда повезешь такое сѣно?
Только не избалованныя маленькія, лохматыя коровенки новоселовъ не брезговали ѣсть это сѣно. Былъ кругомъ, правда, лѣсъ, много лѣсу, но не было дорогъ и мостовъ чрезъ рѣчки и болота въ городъ. И что повезешь на одной лядащей лошаденкѣ, которая не знала вкуса овса? И тѣмъ не менѣе, мужикъ возилъ дрова въ городъ, теряя на каждый возъ 3—4 дня ѣзды. Иногда онъ одолжался конемъ у сосѣда и это, конечно, дѣлалось, какъ услуга за услугу.
Однимъ словомъ виленскіе новоселы и въ Сибири маячили не мало. Впрочемъ, бездѣтные скоро бросили участки и ушли въ городъ, который давалъ хорошіе заработки. Но деревенскіе многосемейные хлѣборобы никакъ не могли выпутаться изъ бѣды и „справиться". Они влачили жалкое существованіе и были глубоко презираемы старожилами— сибиряками. На бѣду новоселовъ и года подошли плохіе: или засуха, и червь, и кобылка; или—дожди не въ мѣру, или ранній снѣгъ.
Прошло не мало лѣтъ, а богаче не стали, за исключеніемъ, двухъ-трехъ счастливцевъ. Въ костелъ, „до исповѣди", ѣздили по очереди, беря на прокатъ у болѣе состоятельныхъ обутки и одежу, дома носилась всевозможная рвань и „лаптяки", а мальчишки до 10 лѣтъ бѣгали „безъ оныхъ". Къ веснѣ ѣли уже не хлѣбъ, а одну картошку и, когда наступала весенняя распутица и дорога въ городъ дѣлалась не проѣзжей,—бывали дни, что нельзя было достать муки зa деньги. Тогда питались болтушкой, варенымъ зерномъ и т. д.
Оставался еще рессурсъ у многосемейныхъ новоселовъ—отпустить взрослыхъ сыновей и дочерей въ городъ. Но къ этому средству не всѣ прибѣгали охотно. Опытъ показалъ, что парни с дѣвки, испробовавъ городского житья, уже не возвращались добровольно въ деревню. Въ лучшемъ случаѣ они отдавали часть заработанныхъ денегъ родителямъ; въ худшемъ—сбивались „съ пути": тогда и возвращеніе ихъ въ семьи было не на радость, а на горе и срамъ.
Въ послѣднюю зиму, когда въ семьѣ Марильки доѣдали остатки хлѣба, поднялся вопросъ о городѣ: дѣвушку рѣшили отдать въ услуженіе. Особенно настаивала на этомъ полуслѣпая отъ трахомы мачиха, замученная и своими, и сводными ребятишками. Родная мать Марильки умерла еще въ РОССІИ.
Дѣвушкѣ не хотѣлось въ городъ: онъ пугалъ ее, она видала его только мелькомъ во время рѣдкихъ поѣздокъ „до исповѣди". Прежде ей было совѣстію своихъ „лаптякъ", своей короткой заплатанной юбченки и она мечтала о башмакахъ, „о кохтачкѣ", ей хотѣлось пріодѣть ребятишекъ.
Но, когда пришла нужда разставаться съ роднымъ домомъ и деревней—Марилька затосковала. Она забыла и „лаптяки" и „болтушку", она понимала только хорошее, что давала ей деревня, или—вѣрнѣе,—деревенское лѣто, это недолгое, Сибирское лѣто, въ которое расцвѣтаютъ деревенскіе и всякіе ребятишки, обреченные всю долгую зиму сидѣть дома „по независящимъ обстоятельствамъ". Марильки ясно представляла всѣ пережитые, счастливые моменты лѣта. Ихъ деревню полукругомъ огибала рѣчка съ зеленѣющимъ ковромъ луга. За синей лентой рѣки, на другомъ берегу, уходила темная тайга до далекихъ, смутно очерченныхъ горъ. Лѣвѣе—на высокомъ холмѣ пріютилась съ золотымъ крестомъ бѣлая церковь сосѣдей старожиловъ: пра-вѣе—березнячекъ, сквозь ажурную листву котораго виднѣлись старые и новые кресты погоста, гдѣ нашли себѣ отдыхъ десятки хлѣборобовъ, пришедшихъ съ далекой „Рассеи" и „зъ Литвы". Тишину и покой этой „Божьей нивы" нарушалъ только шумъ и рокотъ озорнаго мельничнаго водопада, который съ грохотомъ и пѣной катился черезъ мельницу и заставлялъ дрожать узенькій мостикъ, по которому было такъ жутко перебѣгать. За мельничнымъ омутомъ любимое купанье деревенскихъ ребятишекъ.
А сколько радости, когда поспѣютъ ягоды, грибы, орѣхи. Жаркій полдень царитъ надъ селомъ. Отъ пыльной дороги пышетъ пекломъ. Но вотъ зеленая чаща лѣса. Мягкіе солнечные просвѣты дрожащими пятнами ложатся между деревъ на бархатный коверъ мха и сочной травы. Не жарко. Въ воздухѣ чарующая ласка лѣта. Жужжатъ и стрекочутъ насѣкомыя, щебечутъ и перепархиваютъ испуганныя ребячьимъ гомономъ птицы и до поздней зари аукаются въ лѣсу ребятишки. Въ воскресенье эта же шумливая, бѣлоголовая, босоногая ватага бѣжитъ
впереди взрослыхъ на дальнія запашки смотрѣть хлѣбъ. Тихо плывутъ по голубому небу розоватыя и бѣлыя тучки. Зеленѣютъ темные овсы, цвѣтетъ снѣжно-бѣлая гречиха, желтѣетъ золотистая рожь съ синими васильками и все это въ перемежку съ купами перелѣсковъ и изумрудной зеленью зыбуновъ и низинь.
Всѣ эти счастливые дни остались позади.
Марилька—въ городѣ. Одѣтая въ чужіе башмаки, въ чужую шаль и пальто, она пришла „наймоваться" по рекомендаціи земляка—извощика.
Въ свѣтлой господской кухнѣ стоитъ она, растерянная и красная, и застѣнчиво улыбается, не зная куда дѣвать ненужно — болтающіяся руки.
— Что же ты умѣешь дѣлать?—спрашиваетъ ее старая, сѣдая барыня.
— Хлѣбъ умѣю спечь, корову подоить, а больше ничего не умѣю... Покажете—буду учиться... — Ужъ вы ее, барыня, учите,—вступается въ разговоръ бойкая жена извощика,—она ничего не зна-
етъ: дома бѣдность непокрытая, голодомъ сидятъ... А ты, Марилька, слушайся пани: чтобъ мнѣ за тебя не стыдно было, наша рекомендація... И никуда, барыня кромѣ костелу ее не пускайте: такъ и отецъ приказалъ".
Марилька, дѣйствительно, ничего не умѣла: ни сварить, ни сжарить, ни на столъ накрыть, ни комнату прибрать. Дома полъ скребли только къ Пасхѣ, а стирали очень рѣдко, такъ какъ не y всѣхъ членовъ семьи были даже „смѣнки".
Но, хотя Марилька не знала, что дѣлаютъ съ горчицей и что такое уксусъ (а отъ перцу и корицы отплевывалась, ужасаясь панскому вкусу); хотя она путала, куда стелютъ простыни — на столы, или кровати,—чрезъ мѣсяцъ она все же освоилась со своими обязанностями и перестала подавать уксусъ и перецъ къ чаю, а сливочникъ—къ обѣду. Гораздо труднѣе было пріучить ее къ употребленію личнаго полотенца и носового платка.
— „Да какое же хорошее вы дали полотенце, барыня!.. И платочекъ хорошій какой!
И Марилька тянулась поцѣловать ручку „у пани", а затѣмъ, налюбовавшись платочкомъ и полотенцемъ, бережно завертывала ихъ въ газетную бумагу и складывала на полку, И снова дѣлались попытки прибѣгать къ услугамъ засаленнаго фартука, который исполнялъ должность и личного полотенца, и носового платка, и не прочь была замѣнить, къ великому ужасу барыни, и посудное полотенце.
Въ общемъ прислуга и барыня были довольны другъ другомъ. Барынѣ нравились скромность и непритязательность Марильки, ея услужливость; дѣвушкѣ жилось не дурно въ домѣ господъ, гдѣ были къ ней внимательны и главное — гдѣ все было такъ ново, такъ непохоже на деревенское..
Марилька была очень религіозна: три дня на недѣлѣ она обязательно постилась и въ костелъ ходила почти всякій праздникъ. Примѣшивалось здѣсь и маленькое тщеславіе: такъ непривычно было видѣть на себѣ новое шумящее платье,—вмѣсто затрапезной юбченки, красные чулки и башмаки со скрипомъ, вмѣсто лаптей! Была и лента въ бѣлокурой косѣ и вязаный бѣлый платочекъ. По дорогѣ къ костелу Марилька нарочно замедляла шагъ предъ окнами съ зеркальными стеклами и улыбаясь глядѣла на свое изображеніе. Она ли это? что сказали бы деревенскіе, еслибъ увидѣли ее во всемъ ея великолѣпіи? Какъ дивились бы и радовались свои ребятишки? Ей казалось, что нѣтъ никого наряднѣе ея... И если въ костелѣ она встрѣчала кого нибудь изъ деревенскихъ и ловила ихъ удивленные, а иногда и восхищенные взгляды — счастью ея не было границъ! Послѣ того она съ горячей благодарностью устремляла свои свѣтлые голубые глаза на крестъ съ распятіемъ, тонкій и высокій, чистыми линіями возносящійся въ высь купола.
Было еще большое счастье—отдавать зарабо-танныя деньги отцу, когда тотъ пріѣзжалъ съ дровами въ городъ; онъ набиралъ тогда цѣлую уйму покупокъ: тутъ была и мука, и соль, и керосинъ, и спички. Если Марилька могла прибавить къ этому какіе нибудь барскіе обноски и сломанныя игрушки, чтобъ порадовать своихъ ребятишекъ, то она была довольна вдвойнѣ.
И вдругъ всей идилліи наступилъ конецъ! Было ясное праздничное утро. Торжественный звонъ большого соборнаго колокола гулко разносился въ прозрачномъ воздухѣ и терялся въ далекой синевѣ неба. Звонили и въ костелѣ. Чистый ласковый звонъ точно звалъ Марильку и она, поскрипывая своими новыми башмаками, прибавила шагу. Она различала уже на горѣ этотъ старый костелъ, въ окнахъ котораго цвѣт-нымъ огнемъ играли отблески горячаго солнца. Сквозь рѣшетчатую ограду желтѣли дорожки сада, а густыя вѣтви тополей лѣзли на улицу.
Вдругъ Марильку окликнули:
— Послушайте, барышня, не спѣшите. Надо сказать два слова...
Она оглянулась и сразу узнала говорившаго это былъ мясникъ—торговецъ, у котораго она раза два брала мясо для своихъ господъ.
Мясникъ былъ молодой, румянный, кудрявый съ наглыми черными глазами и необыкновенно вертлявый и развязный.
Марилька густо покраснѣла и замедлила шаги
— Послушайте... И тогда еще хотѣлъ сказатъ вамъ, да покупатели помѣшали... Вы сколько получаете у своихъ господъ? Да, вы не торопитесь... Вотъ тутъ у воротъ и лавочка.. Присядемъ!..
Марилька все еще недоумѣвала, слѣдуетъ ли ей остановиться, или спѣшить въ костелъ?
А можетъ это какое дѣло до господъ? И она сѣла на указанную лавочку.
— Сколько же вы получаете у господъ?— спросилъ онъ снова, отмахиваясь шелковый! платочкомъ отъ жары.
— Семь рублей...
— Ну, вотъ видите... А семейство, я знаю не маленькое... Мы живемъ при лавкѣ только вдвоемъ съ мамашей—старушкой. И мамашъ давно хочется имѣть прислугу деревенскую. Чтобъ была дѣвушка честная, не избалованная Потому мамаша имѣютъ такой расчетъ... Онѣ у насъ строгія, самостоятельныя... Онѣ не гонятся за богатствомъ... А если дѣвушка оправдаетъ себя и хорошо будетъ служить, то мамаша не попрепятствуютъ и тому, чтобъ я женился... Однимъ словомъ,—идите къ намъ, работа легкая и 10 р. жалованья... Очень вы мамашѣ понравились... Здѣшнія дѣвушки ужъ очень бойки... Самое лучшее—послѣ обѣдни зайдите къ мамашѣ, тамъ и столкуетесь...
Марилька окончательно растерялась. Она стремительно сорвалась съ мѣста и заспѣшила къ костелу.
Заторопился за ней и купчикъ и, хоти Марилька не оглядывалась, онъ успѣлъ еще сказать ей:
— И кромѣ того—обязательный подарокъ, не менѣе 25 рублей.
Послѣ этого онъ круто повернулъ назадъ, а дѣвушка почти бѣгомъ добѣжала до костела.
На этотъ разъ она не молилась Мысли, точно вихри, проносились въ ея головѣ.. Двадцать пять рублей?! Да, вѣдь это отецъ можетъ купить второго коня... Десять рублей?! Какъ на нихъ дома поправятся!.. И сама она одѣнется, обуется.. Заведетъ жакетку и калоши... И мало ли что... А если еще купецъ женится?! Сама пани буду... Ужъ я заслужу передъ старухой... И я еще боялась города... Люди пугали... А какіе-жъ добрые въ городѣ!.. Мои господа добрые, а эти еще добрѣе... Не хорошо будто мою барыню оставить безъ прислуги... Ну, да и своего счастья упускать не слѣдуетъ...
Марилька вернулась изъ костела позднѣй обык-новеннаго и поразила барыню своимъ растеряннымъ видомъ. Она вяло двигалась, не смѣялась, на шутки хмурилась и сдѣлавши какое нибудь дѣло, сидѣла подолгу въ забывчивости на своей постели. Такой же была она и на другой день. И опять начала подавать судокъ къ чаю, а сливочникъ къ обѣду.
— Больна ты, что ли, Марилька?—спрашивали ее.
— Нѣтъ, здорова.,
— Но тебя точно подмѣнили! Что у тебя случилось? Развѣ въ деревнѣ что?
Марилька точно ухватилась за ату мысль.
— Вѣрно, барыня, мать больна... Домой велѣли ѣхать. Вы ужъ расчитайте меня...
И она горько расплакалась.
Черезъ день Марильку—нарядную я веселую случайно увидали въ мясной лавочкѣ дѣти барыни. Барыня недоумѣвала. Прошло еще два дня и уже сама барыня увядала дѣвушку съ опухшими отъ слезъ главами на базарѣ. Марилька ходила по базару и искала своихъ деревенскихъ, чтобъ уѣхать съ ними домой. Те-перь она знала, что не напрасно боялась города и что въ городѣ есть очень дурные, безсовѣстные люди.
л. с.
И позднѣе, въ Сибири, жуя невкусную, выросшую „на мокринахъ" картошку, Марилька вспоминала виленскія сладкія яблоки, которыя они—ребятишки ѣли съ мякиннымъ хлѣбомъ.
Правда яблоки доставались имъ только съ изъяномъ: съ червоточиной, надклеванныя птицей (хорошія берегли для продажи), нo Maрилькѣ казалось, что, какъ между этими яблоками и постылой картошкой, такъ и между „Виленьской“ губерніей и Сибирью не можетъ быть никакого сравненія. Хлѣбъ тамъ Марилькинъ отецъ не сѣялъ; слишкомъ малъ былъ арендованный имъ участокъ у пана и весь этотъ участокъ былъ подъ садомъ.
Да и урожаи тамъ были плохіе; собственно урожаевъ и не было, а были каждый годъ только "виды на урожай". Уже къ половинѣ лѣта выяснялось, что на поляхъ неудобренныхъ, еле всковырянныхъ орудіями временъ Ольгерда, хорошихъ хлѣбовъ ждать нечего и мужики предпочитали батрачить на благоустроенныхъ фольваркахъ и мызахъ. Между тѣмъ семья у отца Марильки росла, жена часто хворала, садъ давалъ очень мало, я жить становилось все труднѣй и труднѣй. Сколько мужикъ ни работалъ, всегда выходило такъ, что то ковригу хлѣба надо было „поживать" (занять) у сосѣда, то чашку соли, а сaмого его періодически тянули „у волость" для непріятныхъ объясненій по поводу недоимокъ.
И мужикъ рѣшился на переселеніе. Стали сразу собираться нѣсколько семей. Такова сила стадности: недоѣдали, голодали года и всѣ сидѣли на насиженныхъ мѣстахъ. Когда же одинъ заявилъ, что питаться мякиннымъ хлѣбомъ больше не хочетъ, батрачить по чужимъ мызамъ не желаетъ— всѣ загалдѣли о далекой Сибири, о споемъ падѣлѣ, о вольныхъ земляхъ.
Много горя приняли Виленскіе мужики, пока добрались до Челябинска и N-cka. Въ грязныхъ вагонахъ ихъ было набито, какъ сельдей въ бочкѣ. Хворали ребятишки и много ихъ было схоронено въ разныхъ пунктахъ длинной дороги. Проѣлись въ конецъ, и бабы съ воемъ продавали за безцѣнокъ домашній холстины. Въ Челябинскѣ партію пощипали сибирскіе мазурики —украли нѣсколько мѣшковъ съ рухлядью... Наконецъ, всѣ мытарства кончились, кончилось распостылое житье въ баракахъ и Марилькинъ отець съ партіей получили надѣлы.
Вышла только маленькая канцелярская ошибка: по межевымъ планамъ участки были хоть куда, а на самомъ дѣлѣ оказались они достаточно гиблымъ мѣстомъ. Мокрицы, да низины давали скудные урожаи, не родились даже хорошія травы, не было хорошихъ сѣновъ: рѣпьяки, да осоки— куда повезешь такое сѣно?
Только не избалованныя маленькія, лохматыя коровенки новоселовъ не брезговали ѣсть это сѣно. Былъ кругомъ, правда, лѣсъ, много лѣсу, но не было дорогъ и мостовъ чрезъ рѣчки и болота въ городъ. И что повезешь на одной лядащей лошаденкѣ, которая не знала вкуса овса? И тѣмъ не менѣе, мужикъ возилъ дрова въ городъ, теряя на каждый возъ 3—4 дня ѣзды. Иногда онъ одолжался конемъ у сосѣда и это, конечно, дѣлалось, какъ услуга за услугу.
Однимъ словомъ виленскіе новоселы и въ Сибири маячили не мало. Впрочемъ, бездѣтные скоро бросили участки и ушли въ городъ, который давалъ хорошіе заработки. Но деревенскіе многосемейные хлѣборобы никакъ не могли выпутаться изъ бѣды и „справиться". Они влачили жалкое существованіе и были глубоко презираемы старожилами— сибиряками. На бѣду новоселовъ и года подошли плохіе: или засуха, и червь, и кобылка; или—дожди не въ мѣру, или ранній снѣгъ.
Прошло не мало лѣтъ, а богаче не стали, за исключеніемъ, двухъ-трехъ счастливцевъ. Въ костелъ, „до исповѣди", ѣздили по очереди, беря на прокатъ у болѣе состоятельныхъ обутки и одежу, дома носилась всевозможная рвань и „лаптяки", а мальчишки до 10 лѣтъ бѣгали „безъ оныхъ". Къ веснѣ ѣли уже не хлѣбъ, а одну картошку и, когда наступала весенняя распутица и дорога въ городъ дѣлалась не проѣзжей,—бывали дни, что нельзя было достать муки зa деньги. Тогда питались болтушкой, варенымъ зерномъ и т. д.
Оставался еще рессурсъ у многосемейныхъ новоселовъ—отпустить взрослыхъ сыновей и дочерей въ городъ. Но къ этому средству не всѣ прибѣгали охотно. Опытъ показалъ, что парни с дѣвки, испробовавъ городского житья, уже не возвращались добровольно въ деревню. Въ лучшемъ случаѣ они отдавали часть заработанныхъ денегъ родителямъ; въ худшемъ—сбивались „съ пути": тогда и возвращеніе ихъ въ семьи было не на радость, а на горе и срамъ.
Въ послѣднюю зиму, когда въ семьѣ Марильки доѣдали остатки хлѣба, поднялся вопросъ о городѣ: дѣвушку рѣшили отдать въ услуженіе. Особенно настаивала на этомъ полуслѣпая отъ трахомы мачиха, замученная и своими, и сводными ребятишками. Родная мать Марильки умерла еще въ РОССІИ.
Дѣвушкѣ не хотѣлось въ городъ: онъ пугалъ ее, она видала его только мелькомъ во время рѣдкихъ поѣздокъ „до исповѣди". Прежде ей было совѣстію своихъ „лаптякъ", своей короткой заплатанной юбченки и она мечтала о башмакахъ, „о кохтачкѣ", ей хотѣлось пріодѣть ребятишекъ.
Но, когда пришла нужда разставаться съ роднымъ домомъ и деревней—Марилька затосковала. Она забыла и „лаптяки" и „болтушку", она понимала только хорошее, что давала ей деревня, или—вѣрнѣе,—деревенское лѣто, это недолгое, Сибирское лѣто, въ которое расцвѣтаютъ деревенскіе и всякіе ребятишки, обреченные всю долгую зиму сидѣть дома „по независящимъ обстоятельствамъ". Марильки ясно представляла всѣ пережитые, счастливые моменты лѣта. Ихъ деревню полукругомъ огибала рѣчка съ зеленѣющимъ ковромъ луга. За синей лентой рѣки, на другомъ берегу, уходила темная тайга до далекихъ, смутно очерченныхъ горъ. Лѣвѣе—на высокомъ холмѣ пріютилась съ золотымъ крестомъ бѣлая церковь сосѣдей старожиловъ: пра-вѣе—березнячекъ, сквозь ажурную листву котораго виднѣлись старые и новые кресты погоста, гдѣ нашли себѣ отдыхъ десятки хлѣборобовъ, пришедшихъ съ далекой „Рассеи" и „зъ Литвы". Тишину и покой этой „Божьей нивы" нарушалъ только шумъ и рокотъ озорнаго мельничнаго водопада, который съ грохотомъ и пѣной катился черезъ мельницу и заставлялъ дрожать узенькій мостикъ, по которому было такъ жутко перебѣгать. За мельничнымъ омутомъ любимое купанье деревенскихъ ребятишекъ.
А сколько радости, когда поспѣютъ ягоды, грибы, орѣхи. Жаркій полдень царитъ надъ селомъ. Отъ пыльной дороги пышетъ пекломъ. Но вотъ зеленая чаща лѣса. Мягкіе солнечные просвѣты дрожащими пятнами ложатся между деревъ на бархатный коверъ мха и сочной травы. Не жарко. Въ воздухѣ чарующая ласка лѣта. Жужжатъ и стрекочутъ насѣкомыя, щебечутъ и перепархиваютъ испуганныя ребячьимъ гомономъ птицы и до поздней зари аукаются въ лѣсу ребятишки. Въ воскресенье эта же шумливая, бѣлоголовая, босоногая ватага бѣжитъ
впереди взрослыхъ на дальнія запашки смотрѣть хлѣбъ. Тихо плывутъ по голубому небу розоватыя и бѣлыя тучки. Зеленѣютъ темные овсы, цвѣтетъ снѣжно-бѣлая гречиха, желтѣетъ золотистая рожь съ синими васильками и все это въ перемежку съ купами перелѣсковъ и изумрудной зеленью зыбуновъ и низинь.
Всѣ эти счастливые дни остались позади.
Марилька—въ городѣ. Одѣтая въ чужіе башмаки, въ чужую шаль и пальто, она пришла „наймоваться" по рекомендаціи земляка—извощика.
Въ свѣтлой господской кухнѣ стоитъ она, растерянная и красная, и застѣнчиво улыбается, не зная куда дѣвать ненужно — болтающіяся руки.
— Что же ты умѣешь дѣлать?—спрашиваетъ ее старая, сѣдая барыня.
— Хлѣбъ умѣю спечь, корову подоить, а больше ничего не умѣю... Покажете—буду учиться... — Ужъ вы ее, барыня, учите,—вступается въ разговоръ бойкая жена извощика,—она ничего не зна-
етъ: дома бѣдность непокрытая, голодомъ сидятъ... А ты, Марилька, слушайся пани: чтобъ мнѣ за тебя не стыдно было, наша рекомендація... И никуда, барыня кромѣ костелу ее не пускайте: такъ и отецъ приказалъ".
Марилька, дѣйствительно, ничего не умѣла: ни сварить, ни сжарить, ни на столъ накрыть, ни комнату прибрать. Дома полъ скребли только къ Пасхѣ, а стирали очень рѣдко, такъ какъ не y всѣхъ членовъ семьи были даже „смѣнки".
Но, хотя Марилька не знала, что дѣлаютъ съ горчицей и что такое уксусъ (а отъ перцу и корицы отплевывалась, ужасаясь панскому вкусу); хотя она путала, куда стелютъ простыни — на столы, или кровати,—чрезъ мѣсяцъ она все же освоилась со своими обязанностями и перестала подавать уксусъ и перецъ къ чаю, а сливочникъ—къ обѣду. Гораздо труднѣе было пріучить ее къ употребленію личнаго полотенца и носового платка.
— „Да какое же хорошее вы дали полотенце, барыня!.. И платочекъ хорошій какой!
И Марилька тянулась поцѣловать ручку „у пани", а затѣмъ, налюбовавшись платочкомъ и полотенцемъ, бережно завертывала ихъ въ газетную бумагу и складывала на полку, И снова дѣлались попытки прибѣгать къ услугамъ засаленнаго фартука, который исполнялъ должность и личного полотенца, и носового платка, и не прочь была замѣнить, къ великому ужасу барыни, и посудное полотенце.
Въ общемъ прислуга и барыня были довольны другъ другомъ. Барынѣ нравились скромность и непритязательность Марильки, ея услужливость; дѣвушкѣ жилось не дурно въ домѣ господъ, гдѣ были къ ней внимательны и главное — гдѣ все было такъ ново, такъ непохоже на деревенское..
Марилька была очень религіозна: три дня на недѣлѣ она обязательно постилась и въ костелъ ходила почти всякій праздникъ. Примѣшивалось здѣсь и маленькое тщеславіе: такъ непривычно было видѣть на себѣ новое шумящее платье,—вмѣсто затрапезной юбченки, красные чулки и башмаки со скрипомъ, вмѣсто лаптей! Была и лента въ бѣлокурой косѣ и вязаный бѣлый платочекъ. По дорогѣ къ костелу Марилька нарочно замедляла шагъ предъ окнами съ зеркальными стеклами и улыбаясь глядѣла на свое изображеніе. Она ли это? что сказали бы деревенскіе, еслибъ увидѣли ее во всемъ ея великолѣпіи? Какъ дивились бы и радовались свои ребятишки? Ей казалось, что нѣтъ никого наряднѣе ея... И если въ костелѣ она встрѣчала кого нибудь изъ деревенскихъ и ловила ихъ удивленные, а иногда и восхищенные взгляды — счастью ея не было границъ! Послѣ того она съ горячей благодарностью устремляла свои свѣтлые голубые глаза на крестъ съ распятіемъ, тонкій и высокій, чистыми линіями возносящійся въ высь купола.
Было еще большое счастье—отдавать зарабо-танныя деньги отцу, когда тотъ пріѣзжалъ съ дровами въ городъ; онъ набиралъ тогда цѣлую уйму покупокъ: тутъ была и мука, и соль, и керосинъ, и спички. Если Марилька могла прибавить къ этому какіе нибудь барскіе обноски и сломанныя игрушки, чтобъ порадовать своихъ ребятишекъ, то она была довольна вдвойнѣ.
И вдругъ всей идилліи наступилъ конецъ! Было ясное праздничное утро. Торжественный звонъ большого соборнаго колокола гулко разносился въ прозрачномъ воздухѣ и терялся въ далекой синевѣ неба. Звонили и въ костелѣ. Чистый ласковый звонъ точно звалъ Марильку и она, поскрипывая своими новыми башмаками, прибавила шагу. Она различала уже на горѣ этотъ старый костелъ, въ окнахъ котораго цвѣт-нымъ огнемъ играли отблески горячаго солнца. Сквозь рѣшетчатую ограду желтѣли дорожки сада, а густыя вѣтви тополей лѣзли на улицу.
Вдругъ Марильку окликнули:
— Послушайте, барышня, не спѣшите. Надо сказать два слова...
Она оглянулась и сразу узнала говорившаго это былъ мясникъ—торговецъ, у котораго она раза два брала мясо для своихъ господъ.
Мясникъ былъ молодой, румянный, кудрявый съ наглыми черными глазами и необыкновенно вертлявый и развязный.
Марилька густо покраснѣла и замедлила шаги
— Послушайте... И тогда еще хотѣлъ сказатъ вамъ, да покупатели помѣшали... Вы сколько получаете у своихъ господъ? Да, вы не торопитесь... Вотъ тутъ у воротъ и лавочка.. Присядемъ!..
Марилька все еще недоумѣвала, слѣдуетъ ли ей остановиться, или спѣшить въ костелъ?
А можетъ это какое дѣло до господъ? И она сѣла на указанную лавочку.
— Сколько же вы получаете у господъ?— спросилъ онъ снова, отмахиваясь шелковый! платочкомъ отъ жары.
— Семь рублей...
— Ну, вотъ видите... А семейство, я знаю не маленькое... Мы живемъ при лавкѣ только вдвоемъ съ мамашей—старушкой. И мамашъ давно хочется имѣть прислугу деревенскую. Чтобъ была дѣвушка честная, не избалованная Потому мамаша имѣютъ такой расчетъ... Онѣ у насъ строгія, самостоятельныя... Онѣ не гонятся за богатствомъ... А если дѣвушка оправдаетъ себя и хорошо будетъ служить, то мамаша не попрепятствуютъ и тому, чтобъ я женился... Однимъ словомъ,—идите къ намъ, работа легкая и 10 р. жалованья... Очень вы мамашѣ понравились... Здѣшнія дѣвушки ужъ очень бойки... Самое лучшее—послѣ обѣдни зайдите къ мамашѣ, тамъ и столкуетесь...
Марилька окончательно растерялась. Она стремительно сорвалась съ мѣста и заспѣшила къ костелу.
Заторопился за ней и купчикъ и, хоти Марилька не оглядывалась, онъ успѣлъ еще сказать ей:
— И кромѣ того—обязательный подарокъ, не менѣе 25 рублей.
Послѣ этого онъ круто повернулъ назадъ, а дѣвушка почти бѣгомъ добѣжала до костела.
На этотъ разъ она не молилась Мысли, точно вихри, проносились въ ея головѣ.. Двадцать пять рублей?! Да, вѣдь это отецъ можетъ купить второго коня... Десять рублей?! Какъ на нихъ дома поправятся!.. И сама она одѣнется, обуется.. Заведетъ жакетку и калоши... И мало ли что... А если еще купецъ женится?! Сама пани буду... Ужъ я заслужу передъ старухой... И я еще боялась города... Люди пугали... А какіе-жъ добрые въ городѣ!.. Мои господа добрые, а эти еще добрѣе... Не хорошо будто мою барыню оставить безъ прислуги... Ну, да и своего счастья упускать не слѣдуетъ...
Марилька вернулась изъ костела позднѣй обык-новеннаго и поразила барыню своимъ растеряннымъ видомъ. Она вяло двигалась, не смѣялась, на шутки хмурилась и сдѣлавши какое нибудь дѣло, сидѣла подолгу въ забывчивости на своей постели. Такой же была она и на другой день. И опять начала подавать судокъ къ чаю, а сливочникъ къ обѣду.
— Больна ты, что ли, Марилька?—спрашивали ее.
— Нѣтъ, здорова.,
— Но тебя точно подмѣнили! Что у тебя случилось? Развѣ въ деревнѣ что?
Марилька точно ухватилась за ату мысль.
— Вѣрно, барыня, мать больна... Домой велѣли ѣхать. Вы ужъ расчитайте меня...
И она горько расплакалась.
Черезъ день Марильку—нарядную я веселую случайно увидали въ мясной лавочкѣ дѣти барыни. Барыня недоумѣвала. Прошло еще два дня и уже сама барыня увядала дѣвушку съ опухшими отъ слезъ главами на базарѣ. Марилька ходила по базару и искала своихъ деревенскихъ, чтобъ уѣхать съ ними домой. Те-перь она знала, что не напрасно боялась города и что въ городѣ есть очень дурные, безсовѣстные люди.
л. с.
Показать спойлер
Вот интересно какой смысл было давать переселенцам в Сибири плохие земли и неугодья? Чтобы плодить обратно нищету?
Двухслойный pdf
pdf без маски
XVI Выпуск иллюстрированного приложения к газете "Сибирская Жизнь" №143
за воскресенье 4-го июля 1904 года
в номере:
И Головачевъ. «Первый сибирскій публицистъ.»
- Как мы ходили смотрѣть Н. И. Наумова.
- Николай Степнякъ. «Kpeдo.» ( Сказка).
Двухслойный pdf
pdf без маски
за воскресенье 4-го июля 1904 года
в номере:
И Головачевъ. «Первый сибирскій публицистъ.»
Показать спойлер
Феодоръ Ивановичъ Соймоновъ, вице-президентъ адмиралтействъ-коллегіи. обвиненный въ соучастіи съ извѣстнымъ кабинетъ-министромъ Волынскимъ, въ 1740 г. подвергся наказанію кнутомъ, вырыванію ноздрей и ссылкѣ въ Сибирь, именно въ Охотскій солеваренный заводъ. Императрица Елизавета, возвратила ему шпагу и свободу, но еще 16 лѣтъ послѣ этого Соймоновъ прожилъ въ Сибири частнымъ человѣкомъ, безъ всякаго званія. Мыслящій и литературно образованный по тому времени человѣкъ, съ которымъ Волынскій обсуждалъ свои проекты широкихъ государственныхъ преобразованій. -Соймоновъ не даромъ пробылъ годы своего изгнанія къ Сибири. Въ 1753 г. онъ развѣдывалъ фарватеръ Шилки и изучалъ путь по Амуру, всматривался въ жизнь Сибири того времени, собиралъ матеріалы.
Въ 1757 г. Соймоновъ изъ ссыльныхъ дѣлается Сибирскимъ губернаторомъ и остается имъ до 1763 г., когда назначается сенаторомъ. Соймонову принадлежитъ иниціатива многихъ важныхъ административныхъ мѣръ: уничтоженіе Анадырскаго острога для облегченія коряковъ и камчадаловъ, обязанныхъ привозить туда провіантъ, устройство въ Охотскѣ морской школы, устройство маяковъ и гавани у Посольскаго монастыря на Байкалѣ, проведеніе Сибирскаго тракта по Бaрабѣ, укрѣпленіе въ 1759 году Омской пограничной линіи, послѣ чего южные округа стали безопаснѣе отъ киргизскихъ набѣговъ и получили возможность для безпрепятственнаго мирнаго развитія Соймоновъ принималъ участіе въ журналѣ Миллера „Ежемѣсячныя сочиненія". Хорошее знаніе Сибири и полезныя мѣропріятія Coймонова отмѣчены признательной памятью сибиряковъ о немъ. Соймоновъ первый вт легкой и живой формѣ указалъ на главную причину, почему въ Россіи такъ старались тогда получить выгодные мѣста въ Сибири,—и это сочиненіе сохранилось въ единственномъ уцѣлѣвшемъ экземплярѣ, большая половина котораго напечатана (вѣроятно, въ корректурѣ), а конецъ остался въ рукописи. Печатаніе, повидимому, было почему то прервано. Здѣсь Соймоновъ является публицистомъ въ современномъ значеніи этого слова, съ порицаніемъ относится къ погонѣ за мѣстами въ Сибири ради наживы и попутно приводитъ много свѣдѣній о „сибирскомъ изобиліи" въ половинѣ XVIII в. Оригиналъ хранится въ Московскомъ архивѣ М—ва Иностранныхъ Дѣлъ (портфель Миллера, №150, XVI. 16) и представляетъ 22 страницы in 8о напечатанныхъ и 3 листа рукописи. Ниже передается содержаніе этой „переписки о сибирскомъ изобиліи и о воеводскихъ и прочихъ управительскихъ доходахъ", этого перваго публицистическаго произведенія, касающагося Сибири.
Очевидно, фиктивный „корреспондентъ" Соймонова, отставленный служилый, проситъ его „о увѣдомленіи, какой случай сибирскимъ воеводамъ бываетъ къ полученію столь великихъ богатствъ, что черезъ 4 или 5 лѣтъ по нѣскольку тысячъ рублей получаютъ". Далѣе „корреспондентъ" спрашиваетъ, почему и правда ли, что Сибирь—золотое дно, „и въ какой силѣ и мѣрѣ." Соймоновъ удовлетворяетъ любопытство „корреспондента". Территорія „отъ Верхотурья черезъ Туринскъ, Тюмень, до Тобольска, дистрикты Ялуторовскій, Ишимскій и Тобольскій подгородный донынѣ изобилуютъ звѣрийными промыслами, лосинными, лисьими, горностальными". „Рыбныя ловли во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ по справедливости можно назвать изобильными". „А хотя и можетъ быть, какъ и здѣшніе жители разсуждаютъ, якобы противъ прежнихъ лѣтъ нѣкоторымъ излишествомъ въ цѣнѣ превосходятъ, однако и нынѣшнія настоящія цѣны за весьма дешевыя противъ всей Россіи почитаться должны". Далѣе Соймоновъ отмѣчаетъ поразительное изобиліе хлѣба и скота въ Сибири и сообщаетъ крайне низкія цѣны на всѣ предметы питанія. Путешественники приблизительно того же времени, какъ Паллась, Фалькъ, Лепехинъ и др., также удивляются крайней дешевизнѣ пищевыхъ продуктовъ въ Сибири. Низкія цѣны и хваленое „сибирское изобиліе" перешли и въ XIX в., лишь медленно эволюціонируя въ сторону оскудѣнія и возвышенія. Проведеніе желѣзной дороги явилось той исторической гранью, за которой и цѣны сдѣлали быстрый скачекъ и стали рости не по днямъ, а по часамъ, и „сибирское изобиліе" стало от-ходить въ область пріятныхъ воспоминаній.
Во времена Соймонова пудъ ржаной муки стоилъ 4 к., пшеничной 7 к, четверь овса 20 к., бревно 5 к.. сажень дровъ 8—12 к. съ доставкой. Около Томска и по Оби были превосходныя рыбныя ловли: также „промыселъ дикихъ козъ и рѣчныхъ бобровъ" (черныхъ, карихъ и рыжихъ). Уѣзды Березовскій, Сургутскій, Нарымскій и Кетскій были чрезвычайно богаты промысловыми звѣрями. Ловля дикихъ оленей въ Березовскомъ уѣздѣ происходила въ огромныхъ размѣрахъ „по низкимъ мѣстамъ, гдѣ оленей усмотрятъ много, ставятъ на немаломъ пространствѣ вехи, на которыхъ навязываютъ изъ холстины или изъ травы на веревочкахъ пучки, которы бы вѣтромъ трогало а отъ того начала что далѣе, то уже оныя ставятъ, а потомъ и весьма узко сводятъ. А когда оленей между такихъ вехъ прежде въ широкое мѣсто загонять, тогда оные побѣгутъ вдоль по тѣмъ поставленнымъ вехамъ, а ежели попадутъ къ правой сторонѣ вехи, тогда и сложа въ низъ вехи (?), поворачиваютъ влѣво, и увидя въ лѣвой сторонѣ веху, потому же поворачиваютъ вправо, и такъ отъ гонянія за ними придержатъ до узко поставленныхъ вехъ. А при тѣхъ узкихъ вехахъ уже въ готовности бываетъ по нѣскольку человѣкъ съ луками, и въ такомь къ нимъ приближеніи и множествѣ, удобнѣе пространнаго мѣста не мало застрѣливаютъ". Этотъ способъ охоты за дикими оленями давно уже не практикуется въ Березовскомъ округѣ и до нѣкоторой степени уцѣлѣлъ лишь на крайнемъ сѣверо-востокѣ Сибири, гдѣ еще водятся дикіе олени. Далѣе Соймоновъ упоминаетъ и о другомъ нынѣ также практикующемся лишь въ самыхъ отдаленныхъ сѣверовосточныхъ частяхъ Сибири загонѣ дикихъ оленей домашними. Округа Канскій, Нижнеудинскій, Иркутскій, Забайкалье во времена Соймонова были очень изобильны лисицами, рысями, дикими козами и изюбрями. Въ 1753 г. въ одной деревнѣ (25 в. отъ Нерчинска) 25 человѣками въ одинъ день было убито и изловлено 4027 козъ (!). Хлѣбъ въ этихъ мѣстахъ лишь въ „засушные" годы доходилъ до 10 к. Около Нерчинска и Кяхты за 5 рублевую лошадь брали отъ 10 до 15 концовъ дабы. На Байкалѣ отъ одной тони добывали до 100 бочекъ омулей, а въ бочкѣ заключалось до 600 омулей. Въ низовьяхъ Шилки и Амура рыба въ такомъ множествѣ шла вверхъ что „перо видимо бываетъ; прибрежные инородцы за 2 или за 3 рубля сороковую бочку наполняютъ рыбой, только соль хозяйская". Въ Якутской области въ то время звѣрей было „великое множество". Соболь и бѣлка водились тамъ въ огромномъ количествѣ. Якуты питались скотомъ и лошадьми, „которыхъ великое довольство имѣютъ". Какъ извѣстно, давно уже является лишь преданіемъ употребленіе якутами лошадей въ пишу. Бобровые промыслы тогда особенно процвѣтали на „восточныхъ островахъ" отъ Камчатки. „Итакъ промыслы бобровъ бываютъ весьма богатые, какъ то въ 1760 г. случилося что на каждаго работника, или на пай досталось по 100 по 8 бобровъ, а по 50 или 60—то почти ординарно". Обычныя цѣны бобра были въ то время 20 руб. „ Изъ такихъ промышленныхъ я за подлинно увѣренъ, что въ Якутскъ плылъ греческаго купца работникъ, и былъ на Камчаткѣ 2 года, возвратился съ половиною на свой пай, съ 54 бобрами, продалъ въ Иркутскѣ, какъ онъ сказывалъ, дешево между 20—30 р. за одинъ, однако и того получилъ 1350 р. Отъ такого всеообщаго изобилія жизнь воеводы въ Сибири была легка и безпечальна: „вездѣ по изобилію и по доброжелательной здѣшнихъ пародовъ склонности, въ первыхъ, пропитаніе безъ всякой покупки имѣть можно, и притомъ безъ всякого грѣха и указамъ противности, но одной ласкѣ, такое удовольствіе всякій воевода получить можетъ, не меньше того дворянина, который съ 500 душъ доходу получаетъ."
Въ 1757 г. Соймоновъ изъ ссыльныхъ дѣлается Сибирскимъ губернаторомъ и остается имъ до 1763 г., когда назначается сенаторомъ. Соймонову принадлежитъ иниціатива многихъ важныхъ административныхъ мѣръ: уничтоженіе Анадырскаго острога для облегченія коряковъ и камчадаловъ, обязанныхъ привозить туда провіантъ, устройство въ Охотскѣ морской школы, устройство маяковъ и гавани у Посольскаго монастыря на Байкалѣ, проведеніе Сибирскаго тракта по Бaрабѣ, укрѣпленіе въ 1759 году Омской пограничной линіи, послѣ чего южные округа стали безопаснѣе отъ киргизскихъ набѣговъ и получили возможность для безпрепятственнаго мирнаго развитія Соймоновъ принималъ участіе въ журналѣ Миллера „Ежемѣсячныя сочиненія". Хорошее знаніе Сибири и полезныя мѣропріятія Coймонова отмѣчены признательной памятью сибиряковъ о немъ. Соймоновъ первый вт легкой и живой формѣ указалъ на главную причину, почему въ Россіи такъ старались тогда получить выгодные мѣста въ Сибири,—и это сочиненіе сохранилось въ единственномъ уцѣлѣвшемъ экземплярѣ, большая половина котораго напечатана (вѣроятно, въ корректурѣ), а конецъ остался въ рукописи. Печатаніе, повидимому, было почему то прервано. Здѣсь Соймоновъ является публицистомъ въ современномъ значеніи этого слова, съ порицаніемъ относится къ погонѣ за мѣстами въ Сибири ради наживы и попутно приводитъ много свѣдѣній о „сибирскомъ изобиліи" въ половинѣ XVIII в. Оригиналъ хранится въ Московскомъ архивѣ М—ва Иностранныхъ Дѣлъ (портфель Миллера, №150, XVI. 16) и представляетъ 22 страницы in 8о напечатанныхъ и 3 листа рукописи. Ниже передается содержаніе этой „переписки о сибирскомъ изобиліи и о воеводскихъ и прочихъ управительскихъ доходахъ", этого перваго публицистическаго произведенія, касающагося Сибири.
Очевидно, фиктивный „корреспондентъ" Соймонова, отставленный служилый, проситъ его „о увѣдомленіи, какой случай сибирскимъ воеводамъ бываетъ къ полученію столь великихъ богатствъ, что черезъ 4 или 5 лѣтъ по нѣскольку тысячъ рублей получаютъ". Далѣе „корреспондентъ" спрашиваетъ, почему и правда ли, что Сибирь—золотое дно, „и въ какой силѣ и мѣрѣ." Соймоновъ удовлетворяетъ любопытство „корреспондента". Территорія „отъ Верхотурья черезъ Туринскъ, Тюмень, до Тобольска, дистрикты Ялуторовскій, Ишимскій и Тобольскій подгородный донынѣ изобилуютъ звѣрийными промыслами, лосинными, лисьими, горностальными". „Рыбныя ловли во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ по справедливости можно назвать изобильными". „А хотя и можетъ быть, какъ и здѣшніе жители разсуждаютъ, якобы противъ прежнихъ лѣтъ нѣкоторымъ излишествомъ въ цѣнѣ превосходятъ, однако и нынѣшнія настоящія цѣны за весьма дешевыя противъ всей Россіи почитаться должны". Далѣе Соймоновъ отмѣчаетъ поразительное изобиліе хлѣба и скота въ Сибири и сообщаетъ крайне низкія цѣны на всѣ предметы питанія. Путешественники приблизительно того же времени, какъ Паллась, Фалькъ, Лепехинъ и др., также удивляются крайней дешевизнѣ пищевыхъ продуктовъ въ Сибири. Низкія цѣны и хваленое „сибирское изобиліе" перешли и въ XIX в., лишь медленно эволюціонируя въ сторону оскудѣнія и возвышенія. Проведеніе желѣзной дороги явилось той исторической гранью, за которой и цѣны сдѣлали быстрый скачекъ и стали рости не по днямъ, а по часамъ, и „сибирское изобиліе" стало от-ходить въ область пріятныхъ воспоминаній.
Во времена Соймонова пудъ ржаной муки стоилъ 4 к., пшеничной 7 к, четверь овса 20 к., бревно 5 к.. сажень дровъ 8—12 к. съ доставкой. Около Томска и по Оби были превосходныя рыбныя ловли: также „промыселъ дикихъ козъ и рѣчныхъ бобровъ" (черныхъ, карихъ и рыжихъ). Уѣзды Березовскій, Сургутскій, Нарымскій и Кетскій были чрезвычайно богаты промысловыми звѣрями. Ловля дикихъ оленей въ Березовскомъ уѣздѣ происходила въ огромныхъ размѣрахъ „по низкимъ мѣстамъ, гдѣ оленей усмотрятъ много, ставятъ на немаломъ пространствѣ вехи, на которыхъ навязываютъ изъ холстины или изъ травы на веревочкахъ пучки, которы бы вѣтромъ трогало а отъ того начала что далѣе, то уже оныя ставятъ, а потомъ и весьма узко сводятъ. А когда оленей между такихъ вехъ прежде въ широкое мѣсто загонять, тогда оные побѣгутъ вдоль по тѣмъ поставленнымъ вехамъ, а ежели попадутъ къ правой сторонѣ вехи, тогда и сложа въ низъ вехи (?), поворачиваютъ влѣво, и увидя въ лѣвой сторонѣ веху, потому же поворачиваютъ вправо, и такъ отъ гонянія за ними придержатъ до узко поставленныхъ вехъ. А при тѣхъ узкихъ вехахъ уже въ готовности бываетъ по нѣскольку человѣкъ съ луками, и въ такомь къ нимъ приближеніи и множествѣ, удобнѣе пространнаго мѣста не мало застрѣливаютъ". Этотъ способъ охоты за дикими оленями давно уже не практикуется въ Березовскомъ округѣ и до нѣкоторой степени уцѣлѣлъ лишь на крайнемъ сѣверо-востокѣ Сибири, гдѣ еще водятся дикіе олени. Далѣе Соймоновъ упоминаетъ и о другомъ нынѣ также практикующемся лишь въ самыхъ отдаленныхъ сѣверовосточныхъ частяхъ Сибири загонѣ дикихъ оленей домашними. Округа Канскій, Нижнеудинскій, Иркутскій, Забайкалье во времена Соймонова были очень изобильны лисицами, рысями, дикими козами и изюбрями. Въ 1753 г. въ одной деревнѣ (25 в. отъ Нерчинска) 25 человѣками въ одинъ день было убито и изловлено 4027 козъ (!). Хлѣбъ въ этихъ мѣстахъ лишь въ „засушные" годы доходилъ до 10 к. Около Нерчинска и Кяхты за 5 рублевую лошадь брали отъ 10 до 15 концовъ дабы. На Байкалѣ отъ одной тони добывали до 100 бочекъ омулей, а въ бочкѣ заключалось до 600 омулей. Въ низовьяхъ Шилки и Амура рыба въ такомъ множествѣ шла вверхъ что „перо видимо бываетъ; прибрежные инородцы за 2 или за 3 рубля сороковую бочку наполняютъ рыбой, только соль хозяйская". Въ Якутской области въ то время звѣрей было „великое множество". Соболь и бѣлка водились тамъ въ огромномъ количествѣ. Якуты питались скотомъ и лошадьми, „которыхъ великое довольство имѣютъ". Какъ извѣстно, давно уже является лишь преданіемъ употребленіе якутами лошадей въ пишу. Бобровые промыслы тогда особенно процвѣтали на „восточныхъ островахъ" отъ Камчатки. „Итакъ промыслы бобровъ бываютъ весьма богатые, какъ то въ 1760 г. случилося что на каждаго работника, или на пай досталось по 100 по 8 бобровъ, а по 50 или 60—то почти ординарно". Обычныя цѣны бобра были въ то время 20 руб. „ Изъ такихъ промышленныхъ я за подлинно увѣренъ, что въ Якутскъ плылъ греческаго купца работникъ, и былъ на Камчаткѣ 2 года, возвратился съ половиною на свой пай, съ 54 бобрами, продалъ въ Иркутскѣ, какъ онъ сказывалъ, дешево между 20—30 р. за одинъ, однако и того получилъ 1350 р. Отъ такого всеообщаго изобилія жизнь воеводы въ Сибири была легка и безпечальна: „вездѣ по изобилію и по доброжелательной здѣшнихъ пародовъ склонности, въ первыхъ, пропитаніе безъ всякой покупки имѣть можно, и притомъ безъ всякого грѣха и указамъ противности, но одной ласкѣ, такое удовольствіе всякій воевода получить можетъ, не меньше того дворянина, который съ 500 душъ доходу получаетъ."
Показать спойлер
- Как мы ходили смотрѣть Н. И. Наумова.
Показать спойлер
Это было въ 1884 году въ ноябрѣ или въ декабрѣ. Н. И. проѣзжалъ изъ Петербурга въ Маріинскъ, гдѣ онъ подучилъ мѣсто чиновника
по крестьянскимъ дѣламъ. Въ Томскѣ онъ долженъ былъ прожить недѣли 3. Я и мой товарищъ К. были въ то время гимназистами 7-го класса. Тогда какъ разъ мы читали Наумовскіе очерки и разсказы изъ сибирской жизни и находились подъ обаяніемъ талантливаго писателя.
по крестьянскимъ дѣламъ. Въ Томскѣ онъ долженъ былъ прожить недѣли 3. Я и мой товарищъ К. были въ то время гимназистами 7-го класса. Тогда какъ разъ мы читали Наумовскіе очерки и разсказы изъ сибирской жизни и находились подъ обаяніемъ талантливаго писателя.
Показать спойлер
- Николай Степнякъ. «Kpeдo.» ( Сказка).
Показать спойлер
Онъ родился, какъ многіе другіе великіе художники, въ темномъ, сыромъ и грязномъ подвалѣ, потому что молодое, зарождающееся вдохновеніе, должно быть, боится свѣта
Онъ росъ и игралъ съ рахитичными, безобразными дѣтьми подвала и никто не
могъ-бы подумать, что въ этой бѣлукорой головкѣ съ выпуклымъ шишковатымъ лбомъ— живетъ геній.
Сырыя стѣны подвала, зловонныя испаренія заднихъ дворовъ отравляли его тѣло и душу.
Онъ легко могъ бы погибнуть въ безпорядочной лотереѣ жизни, гдѣ такъ много пустыхь билетовъ, а выигрыши оказываются, обыкновенно, пошлыми бездѣлушками. Но въ дѣтствѣ онъ былъ счастливѣе другихъ и, поэтому не погибъ.
Среди милліоновъ людей жилъ на свѣтѣ одинъ старикъ, которому міръ казался ужасно пустыннымъ. Двадцать лѣтъ назадъ это его не особенно тяготило, но, въ концѣ концовъ, онъ состарился и почувствовалъ себя въ положеніи гнилого дерева, которое требуетъ подпорки, что-бы не упасть. У старика было пусто внутри— такъ-же пусто, какъ въ дуплистой ивѣ. Онъ былъ не глупъ и очень хорошо зналъ, что эту пустоту можно только прикрыть, но не заполнить.
Онъ росъ и игралъ съ рахитичными, безобразными дѣтьми подвала и никто не
могъ-бы подумать, что въ этой бѣлукорой головкѣ съ выпуклымъ шишковатымъ лбомъ— живетъ геній.
Сырыя стѣны подвала, зловонныя испаренія заднихъ дворовъ отравляли его тѣло и душу.
Онъ легко могъ бы погибнуть въ безпорядочной лотереѣ жизни, гдѣ такъ много пустыхь билетовъ, а выигрыши оказываются, обыкновенно, пошлыми бездѣлушками. Но въ дѣтствѣ онъ былъ счастливѣе другихъ и, поэтому не погибъ.
Среди милліоновъ людей жилъ на свѣтѣ одинъ старикъ, которому міръ казался ужасно пустыннымъ. Двадцать лѣтъ назадъ это его не особенно тяготило, но, въ концѣ концовъ, онъ состарился и почувствовалъ себя въ положеніи гнилого дерева, которое требуетъ подпорки, что-бы не упасть. У старика было пусто внутри— такъ-же пусто, какъ въ дуплистой ивѣ. Онъ былъ не глупъ и очень хорошо зналъ, что эту пустоту можно только прикрыть, но не заполнить.
Показать спойлер
Двухслойный pdf
pdf без маски
XVII Выпуск иллюстрированного приложения к газете "Сибирская Жизнь" №155
за воскресенье 18-го июля 1904 года
в номере:
-Къ старикамъ. (стихи) очень так себе((((
-Городъ Хобдо. (очерк) Думаю, что автор Г.Потанин (человек-улица)
- Г. Потанинъ. «Средне-азіатскій мессіанизмъ». (очерк)
- Изъ воспоминаній слѣдователя.
Двухслойный pdf
https://yadi.sk/i/30G0VbIdnx5um
pdf без маски
https://yadi.sk/i/_0Y_Rm4Jnx62m
за воскресенье 18-го июля 1904 года
в номере:
-Къ старикамъ. (стихи) очень так себе((((
Показать спойлер
(Посвящается моимъ друзьямъ „ч—цамъ""")
На смѣну намъ пришло иное поколѣнье,—
Ему теперь и мѣсто, и почетъ!
Освободимъ же путь!.."Безъ страха и сомнѣнья", Какъ нѣкогда и мы,— въ порывѣ вдохновенья, Поправши старое,—оно идетъ впередъ!
На смѣну намъ пришло иное поколѣнье,—
Ему теперь и мѣсто, и почетъ!
Освободимъ же путь!.."Безъ страха и сомнѣнья", Какъ нѣкогда и мы,— въ порывѣ вдохновенья, Поправши старое,—оно идетъ впередъ!
Показать спойлер
-Городъ Хобдо. (очерк) Думаю, что автор Г.Потанин (человек-улица)
Показать спойлер
Китайскій городъ Хобдо находится на южномъ склонѣ горъ, отдѣляющихъ Томскую губернію отъ владѣній китайской имперіи. Онъ построенъ китайцами въ 1717 или, по другому извѣстію въ 1730 г.; въ томъ же 1730 г. на сѣверной сторонѣ тѣхь же горъ, то есть на сѣверной сторонѣ Алтая, русскіе построили городъ Бійскъ. Слѣдовательно оба города одинаково насчитываютъ около двухъ сотъ лѣтъ существованія. Эти два города связаны взаимно торговыми сношеніями….
Показать спойлер
- Г. Потанинъ. «Средне-азіатскій мессіанизмъ». (очерк)
Показать спойлер
Ойротъ-ханъ, одинъ изъ наименѣе популярныхъ героевъ алтайскаго преданія, сохранившагося въ жалкихъ обрывкахъ, вдругъ пріобрѣлъ извѣстность и заинтересовалъ русское общество въ Сибири и даже причинилъ безпокойство и хлопоты уѣздной администраціи и нарушилъ обычное теченіе обывательской жизни. Дачники, пріѣхавшіе въ Алтай, начали возвращаться въ города; это вышло такъ же смѣшно и нерезонно, какъ если бы взрослый мужчина испугался маленькой дѣвочки или если бы баранъ обратилъ въ бѣгство волка. Такой страхъ не находить себѣ объясненія ни въ характерѣ народа, населяющаго Алтай, ни въ духѣ преданія, породившаго разговоры и нарушившаго спокойствіе на окраинѣ. Алтайцы, живущіе въ долинахъ Алтая, племя совершенно мирное; это полускотоводы, полуохотники за
звѣремъ, проводящіе половину жизни среди сво-ихъ стадъ, другую половину одиноко бродящіе за бѣлкой и соболемъ по трущобамъ алтайской черни. Хотя алтайцы говорятъ турецкимъ языкомъ, но они не отличаются жестокими чертами турецкаго характера; своимъ народнымъ темпераментомъ они напоминаютъ скорѣе остяковъ и другія финскія племена сѣвера. Это люди, по самой своей природѣ не склонные къ фанатизму, которымъ отмѣчена жизнь другихъ турецкихъ племенъ; это пантеисты, не протестующіе противъ условій своей жизни, довольные своей скромной судьбой и любящіе свою бѣдную природу. Жизнь ихъ не воинственная бравада, не смѣна лихихъ набѣговъ на табуны сосѣдей съ отдыхомъ отъ набѣговъ и приготовленіями къ новымъ подвигамъ; нѣтъ, это грустная элегія вымирающаго племени, котораго отъ истребленія спасла не воинственность, а удаленность отъ исторической сцены, на которой разыгрывались событія жизни культурныхъ племенъ; словомъ это непротивленцы, а не насильники.
Ничего опаснаго нѣтъ и въ содержаніи столь нашумѣвшаго преданія.
Алтайцы разсказываютъ, что они когда-то были подъ властью какого-то Ойротъ-хана, царя Ойрота, или, вѣрнѣе сказать, примѣняясь къ духу народныхъ представленій, у алтайцевъ была, царь по имени Ойротъ. Это былъ, конечно миѳическій царь*). Поцарствоватъ, этотъ царь оставила, свой народъ, то есть покончилъ свое существованіе, но удаляясь, онъ обѣщалъ своему народу когда-нибудь снова возвратиться и снова воцаряться, и вотъ, алтайцы ждутъ его чудеснаго пришествія.
Вота, и все, что знаютъ объ этомъ царѣ алтайцы; но крайней мѣрѣ это все, что записано отъ алтайцева объ Ойротъ ханѣ. Вы видите, что это одна изъ версій изъ легенды объ удаляющемся императорѣ; Ойротъ-хана, это алтайскій Фридрихъ Барбаросса. Того, что разсказываютъ алтайцы о своемъ удалившемся царѣ, недостаточно, чтобъ его фигура представлялась сколько-нибудь рельефно; очертаніе ея выступитъ передъ нами яснѣе, если мы привлечемъ къ сравненію съ алтайскимъ преданіемъ легенды сосѣднихъ народностей, монголовъ и сойотовъ, у которыхъ также есть разсказы о подобной же личности, то есть объ удалившемся и ожидаемомъ царѣ или князѣ, хотя послѣдній является въ нихъ подъ другими именами.
У монголовъ мессіанскія надежды соединяются съ именемъ Чингисъ-хана…..
звѣремъ, проводящіе половину жизни среди сво-ихъ стадъ, другую половину одиноко бродящіе за бѣлкой и соболемъ по трущобамъ алтайской черни. Хотя алтайцы говорятъ турецкимъ языкомъ, но они не отличаются жестокими чертами турецкаго характера; своимъ народнымъ темпераментомъ они напоминаютъ скорѣе остяковъ и другія финскія племена сѣвера. Это люди, по самой своей природѣ не склонные къ фанатизму, которымъ отмѣчена жизнь другихъ турецкихъ племенъ; это пантеисты, не протестующіе противъ условій своей жизни, довольные своей скромной судьбой и любящіе свою бѣдную природу. Жизнь ихъ не воинственная бравада, не смѣна лихихъ набѣговъ на табуны сосѣдей съ отдыхомъ отъ набѣговъ и приготовленіями къ новымъ подвигамъ; нѣтъ, это грустная элегія вымирающаго племени, котораго отъ истребленія спасла не воинственность, а удаленность отъ исторической сцены, на которой разыгрывались событія жизни культурныхъ племенъ; словомъ это непротивленцы, а не насильники.
Ничего опаснаго нѣтъ и въ содержаніи столь нашумѣвшаго преданія.
Алтайцы разсказываютъ, что они когда-то были подъ властью какого-то Ойротъ-хана, царя Ойрота, или, вѣрнѣе сказать, примѣняясь къ духу народныхъ представленій, у алтайцевъ была, царь по имени Ойротъ. Это былъ, конечно миѳическій царь*). Поцарствоватъ, этотъ царь оставила, свой народъ, то есть покончилъ свое существованіе, но удаляясь, онъ обѣщалъ своему народу когда-нибудь снова возвратиться и снова воцаряться, и вотъ, алтайцы ждутъ его чудеснаго пришествія.
Вота, и все, что знаютъ объ этомъ царѣ алтайцы; но крайней мѣрѣ это все, что записано отъ алтайцева объ Ойротъ ханѣ. Вы видите, что это одна изъ версій изъ легенды объ удаляющемся императорѣ; Ойротъ-хана, это алтайскій Фридрихъ Барбаросса. Того, что разсказываютъ алтайцы о своемъ удалившемся царѣ, недостаточно, чтобъ его фигура представлялась сколько-нибудь рельефно; очертаніе ея выступитъ передъ нами яснѣе, если мы привлечемъ къ сравненію съ алтайскимъ преданіемъ легенды сосѣднихъ народностей, монголовъ и сойотовъ, у которыхъ также есть разсказы о подобной же личности, то есть объ удалившемся и ожидаемомъ царѣ или князѣ, хотя послѣдній является въ нихъ подъ другими именами.
У монголовъ мессіанскія надежды соединяются съ именемъ Чингисъ-хана…..
Показать спойлер
- Изъ воспоминаній слѣдователя.
Показать спойлер
1
Въ 189* году я служилъ судебнымъ слѣдователемъ въ одномъ изъ городковъ Степного края. Дѣло было лѣтомъ, я только что возвратился изъ поѣздки по киргизской степи, гдѣ нужно было произвести вскрытіе одного трупа и допросить нѣсколько свидѣтелей. Мѣсто было отдаленное и я проѣздилъ цѣлую недѣлю. Не успѣлъ я разобрать дорожныя вещи, какъ мнѣ сообщили, что меня спрашиваетъ начальникъ мѣстной почтово-телеграфной конторы по важному дѣлу. Я поспѣшилъ выйти къ нему….
Въ 189* году я служилъ судебнымъ слѣдователемъ въ одномъ изъ городковъ Степного края. Дѣло было лѣтомъ, я только что возвратился изъ поѣздки по киргизской степи, гдѣ нужно было произвести вскрытіе одного трупа и допросить нѣсколько свидѣтелей. Мѣсто было отдаленное и я проѣздилъ цѣлую недѣлю. Не успѣлъ я разобрать дорожныя вещи, какъ мнѣ сообщили, что меня спрашиваетъ начальникъ мѣстной почтово-телеграфной конторы по важному дѣлу. Я поспѣшилъ выйти къ нему….
Показать спойлер
Двухслойный pdf
https://yadi.sk/i/30G0VbIdnx5um
pdf без маски
https://yadi.sk/i/_0Y_Rm4Jnx62m
XVIII Выпуск иллюстрированного приложения к газете "Сибирская Жизнь" №166
за воскресенье 1-го августа 1904 года
в номере:
- Андра Р. Какъ живутъ въ Лхассѣ. (очерк)
- А. Сѣдельниковъ. Хребетъ Мусъ-тау (Зайсанскій). (очерк)
- Изъ воспоминаніи слѣдователя.
Двухслойный pdf
pdf без маски
за воскресенье 1-го августа 1904 года
в номере:
- Андра Р. Какъ живутъ въ Лхассѣ. (очерк)
Показать спойлер
Тибетъ, привлекающій въ настоящее время вниманіе очень и очень многихъ, отличается въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ по своей интимной жизни отъ извѣстныхъ намъ странъ. Автору настоящей статьи пришлось много разъ разговаривать съ извѣстнымъ калмыцкимъ путешественникомъ База-бакши-хамбо Менкеджіевымъ о разныхъ сторонахъ тибетской жизни. Особенно интересно было знать о самыхъ обыденныхъ явленіяхъ въ домашней и уличной жизни столичныхъ жителей запретной страны; при нашихъ свиданіяхъ База-бакши часто бесѣдовалъ со мной о томъ, чего нѣтъ въ дневникахъ его (изданныхъ также и по русски)…..
Показать спойлер
- А. Сѣдельниковъ. Хребетъ Мусъ-тау (Зайсанскій). (очерк)
Показать спойлер
Въ юго-восточномъ углу Зайсанскаго уѣзда, на границѣ съ Китаемъ, лежать высокія горы, извѣстныя чаще подъ общимъ именемъ Саурь. Въ нихъ различаютъ нѣ
сколько хребтовъ; самый высокій называется Мусъ-тау (киргизское названіе, по русски—ледяныя горы). Этотъ хребетъ образуетъ естественную границу съ Китаемъ на протяженіи 35 версть. Направленіе его восточно-западное; южные склоны круто падаютъ къ долинѣ Кобу (Китай), сѣверные даютъ ряда, длинныхъ отроговъ, раздѣленныхъ глубокими и тѣсными ущельями, на днѣ которыхъ бѣгутъ шумныя рѣчки (почти всѣ въ русскихъ предѣлахъ). Отроги имѣютъ плоскія вершины, запаленныя большими розсыпями.
сколько хребтовъ; самый высокій называется Мусъ-тау (киргизское названіе, по русски—ледяныя горы). Этотъ хребетъ образуетъ естественную границу съ Китаемъ на протяженіи 35 версть. Направленіе его восточно-западное; южные склоны круто падаютъ къ долинѣ Кобу (Китай), сѣверные даютъ ряда, длинныхъ отроговъ, раздѣленныхъ глубокими и тѣсными ущельями, на днѣ которыхъ бѣгутъ шумныя рѣчки (почти всѣ въ русскихъ предѣлахъ). Отроги имѣютъ плоскія вершины, запаленныя большими розсыпями.
Показать спойлер
- Изъ воспоминаніи слѣдователя.
Показать спойлер
(Окончанiе,— см. иллюстр. прил. къ № 155),
III.
Дѣло о похищеніи двадцати тысячъ не переставало волновать небольшой степной городокъ. Собиравшіеся по вечерамъ повинтить и выпить обыватели дѣлали тысячи предположеній о томъ, гдѣ скрыты деньги. Мѣстный уѣздный начальникъ собралъ чуть не сотни киргизъ и самъ осмотрѣлъ дорогу между станціями М—ской и Н—ской. Каждая ямка, каждое подозрительное мѣстечко на десятки и, пожалуй, даже сотни саженъ въ сторонѣ отъ дорога было взрыто и перекопано, но денегъ не находилось. За родственниками ямщика-киргиза былъ организо-ванъ тайный надзоръ, но не далъ никакихъ положительныхъ результатовъ.
III.
Дѣло о похищеніи двадцати тысячъ не переставало волновать небольшой степной городокъ. Собиравшіеся по вечерамъ повинтить и выпить обыватели дѣлали тысячи предположеній о томъ, гдѣ скрыты деньги. Мѣстный уѣздный начальникъ собралъ чуть не сотни киргизъ и самъ осмотрѣлъ дорогу между станціями М—ской и Н—ской. Каждая ямка, каждое подозрительное мѣстечко на десятки и, пожалуй, даже сотни саженъ въ сторонѣ отъ дорога было взрыто и перекопано, но денегъ не находилось. За родственниками ямщика-киргиза былъ организо-ванъ тайный надзоръ, но не далъ никакихъ положительныхъ результатовъ.
Показать спойлер
Двухслойный pdf
pdf без маски
Сейчас читают
1. Куча кошек нуждаются в помощи. Куратор Lily76 (часть 4)
221355
584
Мир изменился! (часть 4)
81805
1000
МТС запустил новую линейку тарифных планов
13039
75
"Сибирская жизнь" №242 8 ноября 1917 г.
Показать спойлер
Наши деньги. Пріѣзжіе из Манчжуріи разсказывают, что китайцы рѣшительно отказываются принимать новые русскіе кредитные билеты, и когда их всетаки дают, китайцы первым дѣлом смотрят, есть-ли на них портрет и, видя отсутствіе послѣдняго, говорят: "шима чега, морда мію"...
Старыя знакомыя кредитки «ходи» всетаки, хотя и с трудом, но принимают.
За розмѣн на старыя кредитки новых 1000 руб. билетов платят по.... 200 рублей!. «У. Кр.»
—В Харбинѣ в обращеніи появились грубо отпечатанныя фальшивыя 20-копеечныя марки с портретом «под Александра-I». На оборотѣ с грубыми опечатками надпись: имѣет хожденіе неревнѣ и проч. «Г. П.»
—В связи с паденіем курса рубля цѣна на золото непомѣрно повысилась. По курсу 18 октябри в Харбинѣ за золотник золота требовали не менѣе 55 р.
«Г. И.»
—В послѣдніе дни наблюдаются рѣзкіе признаки наступленія в Харбинѣ застоя в торговлѣ под вліяніем финансовых условій (прекращеніе крупных банковских переводов из Россіи, недопущеніе выписки оттуда товаров, обезцѣненіе рубля и т. д.).Это прежде всего отразилось на дѣятельности всѣх мѣстных банков, как русских, так и туземных и иностранных. Публика отхлынула оттуда, активныя операціи почти пріостановились, спрос на деньги совершенно прекратился. «Г. П.»
Старыя знакомыя кредитки «ходи» всетаки, хотя и с трудом, но принимают.
За розмѣн на старыя кредитки новых 1000 руб. билетов платят по.... 200 рублей!. «У. Кр.»
—В Харбинѣ в обращеніи появились грубо отпечатанныя фальшивыя 20-копеечныя марки с портретом «под Александра-I». На оборотѣ с грубыми опечатками надпись: имѣет хожденіе неревнѣ и проч. «Г. П.»
—В связи с паденіем курса рубля цѣна на золото непомѣрно повысилась. По курсу 18 октябри в Харбинѣ за золотник золота требовали не менѣе 55 р.
«Г. И.»
—В послѣдніе дни наблюдаются рѣзкіе признаки наступленія в Харбинѣ застоя в торговлѣ под вліяніем финансовых условій (прекращеніе крупных банковских переводов из Россіи, недопущеніе выписки оттуда товаров, обезцѣненіе рубля и т. д.).Это прежде всего отразилось на дѣятельности всѣх мѣстных банков, как русских, так и туземных и иностранных. Публика отхлынула оттуда, активныя операціи почти пріостановились, спрос на деньги совершенно прекратился. «Г. П.»
Показать спойлер
ТОП 5
2
4