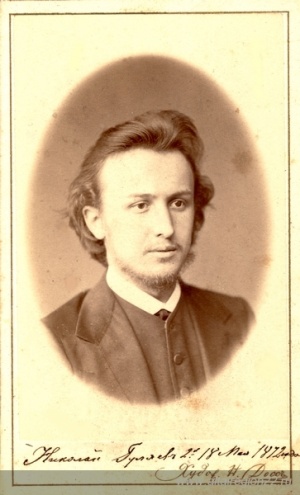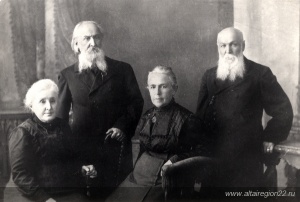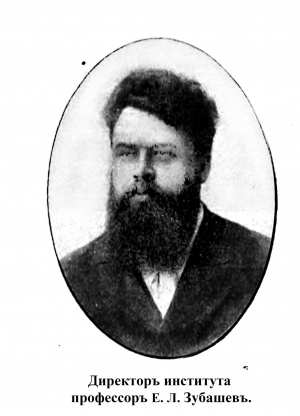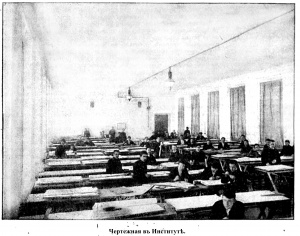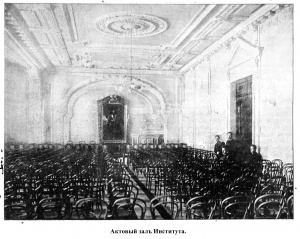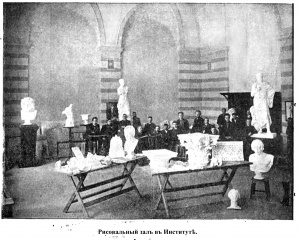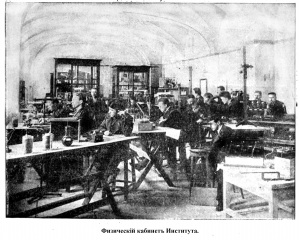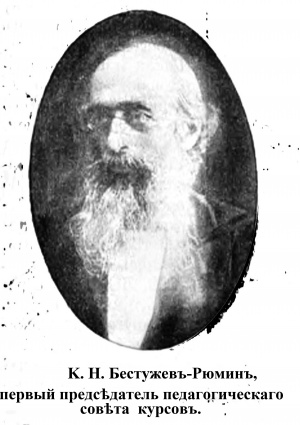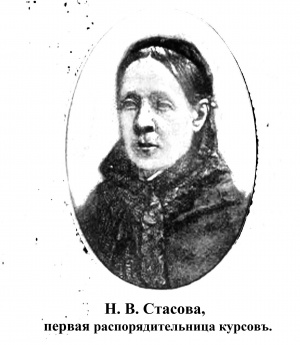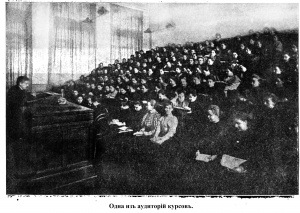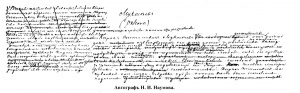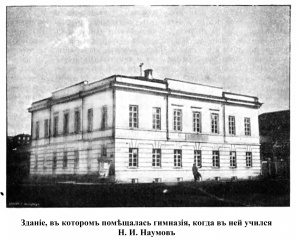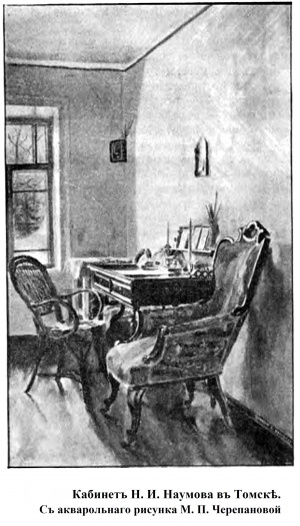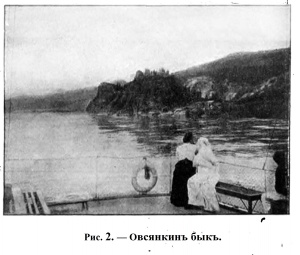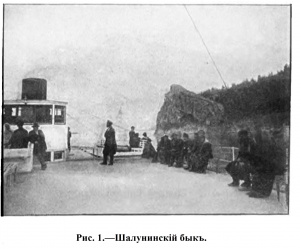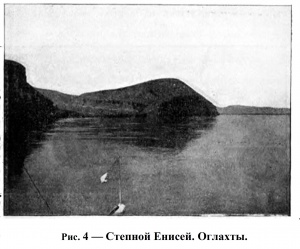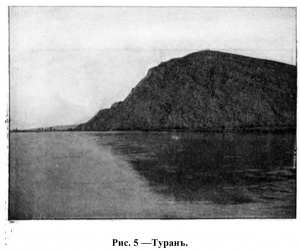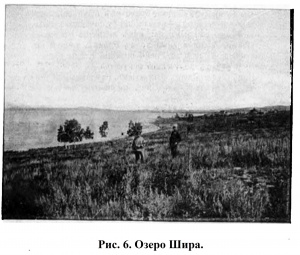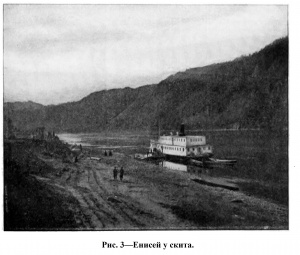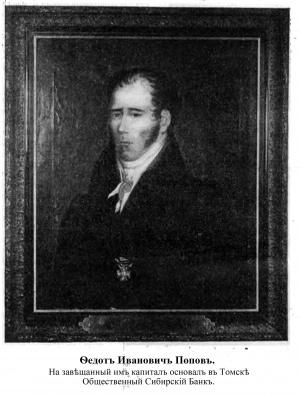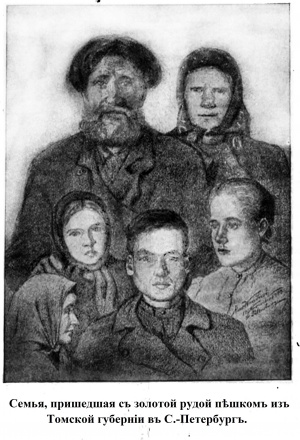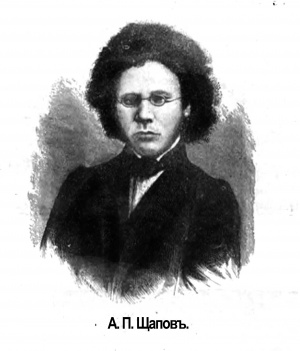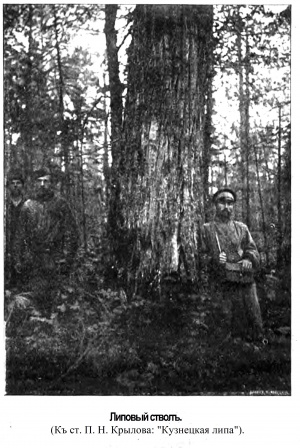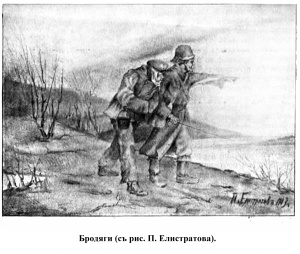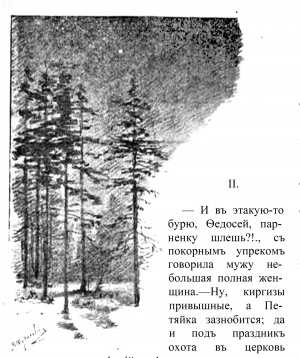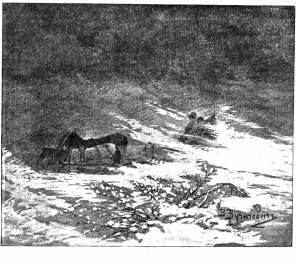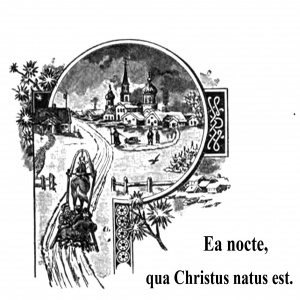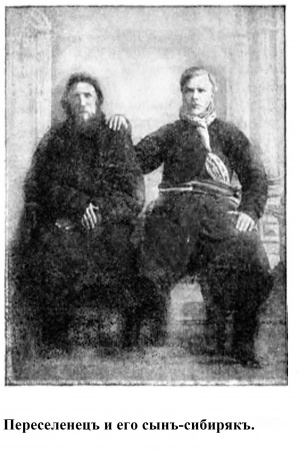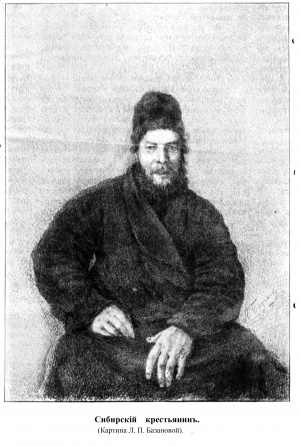На информационном ресурсе применяются cookie-файлы. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.
Чуть подробнее о Гуляеве
Показать спойлер
Фотографии дают возможность не только увидеть членов семьи Гуляевых, но и представляют барнаульское общество конца XIX – начала XX веков. Можно почерпнуть и дополнительные сведения, оставленные на обороте снимков. Например, мы знаем, что женой Николая Степановича Гуляева (старшего) была Евдокия Васильевна Великосельская. Николай Степанович в 1887 году подписал свою фотографию так: "На память бабушке моей, Марии Никитишне Великосельской, от ее внука".
Какой бы жизнью ни жил город, а в нем всегда есть дома, в которых теплится притягательный огонек напряженных духовных поисков. Это не те дома, где даются обеды, стоившие по нескольку сот рублей, и дамы блистают петербургскими и парижскими туалетами. С точки зрения материальной они не богаты. Но зато здесь можно увидеть редкую книгу, услышать о новом научном открытии, познакомиться с интересными, часто необыкновенными людьми.
Таков был дом Степана Ивановича Гуляева в Барнауле. В отличие от большинства местных чиновников, Гуляев не только не роскошествовал, но жил бедно. До старости лет приходилось ему думать о том, как прокормить семью. Выразительное тому свидетельство одно из его писем к зятю, живущему в Иркутске: "Не знаю, что мне делать? - писал Степан Иванович. - Было 3 билета внутреннего займа и те заложил. Любезная супруга настаивает, чтобы я продал дом... Предлагать подобное легко, но как исполнять? Да и дом стоит 800 рублей, не больше".
Однако именно в дом Гуляевых стремились не только образованные горожане, но и многочисленные гости. Бывал здесь прославленный Г. Н. Потанин, известный естествоиспытатель Брем, выдающийся французский археолог Менье. Не раз гостил и славный земляк - сказитель из Ересной Леонтий Тупицын. Его былины, в свое время записанные Гуляевым, переиздаются до сих пор...
C. И. Гуляев, чьим именем названа одна из улиц Барнаула, родился в селе Алейском в 1805 году. Отец его был унтер-шихтмейстером на Локтевском сереброплавильном заводе. Окончил Барнаульское горное училище и, как один из самых способных выпускников, был определен на службу в петербургское горное правление в качестве старшего писаря.
Более 30 лет Степан Иванович жил в Петербурге. Дослужился до очень скромного чина коллежского асессора. Но зато другая, внеслужебная его жизнь была богата.
В первые годы он посещал вечерние классы Академии художеств. Позднее, по возвращении в Сибирь, это пригодилось для создания различных зарисовок, карт, чертежей, копирования книжных миниатюр, в том числе из древней книги Космы Индикоплова "Христианская топография", содержащей много уникальных географических сведений. Позже увлекся самыми различными отраслями познания - историей, этнографией, фольклористикой, языкознанием, естественными науками. Много читал и начал собирать личную библиотеку.
Подружился с известным славистом и этнографом академиком И. И. Срезневским, фольклористом П. И. Якуш-киным.
В 1839 году в "Отечественных записках" публикуется первый литературный труд Гуляева "О сибирских круговых песнях". Позже одна за другой выходят его работы, сами названия которых говорят за себя: "О сибирской соли и алтайском ревене", "Очерки Колывано-Воскресенских заводов", "О графите", "Механик Ползунов", "Этнографические очерки южной Сибири".
Однако Алтай и Сибирь не были единственными темами ученого. Гуляев как бы продолжает традиции тех энциклопедистов, о которых говорилось выше. Он создает, например, "Опыт грамматики русского языка".
Эту книгу рецензировал Добролюбов. Кстати, Степан Иванович посещал "субботники" Срезневского, которые посещал и Добролюбов, в то время студент Главного педагогического института и начинающий журналист. Факт личного их знакомства не установлен. На "субботниках" бывало очень много народа, главным образом академики, профессора, "сановники от науки". Известно только, что Добролюбов знал и другую работу Гуляева Этнографические очерки южной Сибири".
С 1859 года Гуляев живет в Барнауле, занимая должность советника частных золотых приисков. Не только теоретические изыскания влекут ученого. Он впервые на Алтае практиковал посевы свеклы, выращивал яблони и другие растения. Он настойчиво ратовал за использование каменного угля в промышленности. Разработал способы изготовления плетеной мебели и соломенных шляп.
Одним из первых Степан Иванович заинтересовался белокурихинскими радоновыми источниками. Привлек внимание к ним ученого мира. Сам выезжал в Белокуриху и даже основал там первую лечебницу.
Большую известность принес ученому открытый им краситель для овчин, о котором было рассказано в связи с развитием овчинно-шубного производства в Барнауле.
Степан Иванович Гуляев состоял членом 11 научных обществ, в том числе Русского энтомологического общества. Берлинского географического общества, Российского общества садоводства.
Он прожил долгую, полную трудов и исканий жизнь. Умер в Барнауле в 1888 году в возрасте 83-х лет.
***
Степан Иванович Гуляев (1804—1888) — исследователь Алтая; историк, этнограф, фольклорист, изобретатель.
Родился в 1804 году на Локтевском заводе Алтайского округа. Двенадцати лет поступил в горнозаводское училище, откуда по окончании курса был послан на службу в Санкт-Петербург при кабинете его величества.
По возвращении в 1869 году в Барнаул Гуляев всецело отдался практической и научной деятельности. Хорошо ознакомившись с естественными и бытовыми условиями Алтая, он положил основание новым промыслам, улучшению культурных растений и разведению новых пород скота и сельскохозяйственных растений. Его дом в Барнауле постоянно посещался как русскими, так и иностранными путешественниками, исследователями Алтая, которые знакомились с чрезвычайно интересными коллекциями хозяина.
Умер в Барнауле в мае 1888 года.
Труды
Кроме массы заметок и корреспонденций по вопросам, касающимся географии, этнографии, археологии и истории края, можно отметить следующие главные работы Гуляева:
«Этнографические очерки Южной Сибири» («Библиотека для чтения», 1848).
«Заметки об Иртыше и странах, им орошаемых».
«О древностях, открываемых в Киргизской степи» («Известия Императорского географического общества», 1851).
«О золотопромышленности».
Из ненапечатанных:
«Историко-статистическое описание г. Барнаула в 1864 г.»
«Собрание былин», записанных на Алтае.
***
Степан Иванович Гуляев - видный исследователь Алтая, историк, этнограф, фольклорист, изобретатель. Родился в с. Алейское, в семье служащего Локтевского завода. По окончании Барнаульское горнйое училище (1827) направлен в Петербург писцом горного отделения Кабинета. Здесь много занимался самообразованием, посещал "субботы" ученого-лингвиста И. И. Срезневского. Через переписку с родными и знакомыми собирал материалы по истории и этнографии Алтая, былины, песни.
Первый очерк "О сибирских круговых песнях" опубликован в журнале "Отечественные записки" (1839), в "Санкт-Петербургских ведомостях" - "Алтайские каменщики" (1845), в "Библиотеке для чтения" - "Этнографические очерки Южной Сибири" (1848), в "Вестнике промышленности" - "О механике Ползунове" (1858). Избран член-корреспондентом Вольного экономического общества (1845), член-сотрудником Российского географического общества. В 1859 назначен советником отделения частных зол. промыслов Алт. горн. правления, переехал в Барнаул.
Наряду с основной службой занимался этнографией, археологией, минералогией, фольклором, селекцией. Первый обратил внимание на Белокурихинские радоновые источники, построил там лечебницу, первый на Алтае осуществил опытные посевы сахарной свеклы, табака, изучал рыболовный промысел. Большую известность принесло Гуляеву изобретение красителя для овчин. Сшитые из них шубы-"барнаулки" пользовались большим спросом не только на Алтае, но и далеко за его пределами. Активный поборник просвещения: в 1862 на свои скромные средства открыл публичную библиотеку (она просуществовала недолго), выступал за открытие гимназии в Барнауле, университета в Сибири, состоял кандидатом в члены Общества попечения о начальном образовании в Барнауле.
Главная заслуга Гуляева - фольклористика. Всю жизнь собирал он народные песни, былины, сказки. Открыл талант сказителя из с. Ерестного (под Барнаулом) Леонтия Тупицына, записал у него более 20 былин. По сведениям М. К. Азадовского, репертуар тупицынской семьи восходил к середине XVIII в., что придавало записям С. И. Гуляева особую ценность.
"Леонтий Гаврилович, обладающий обширной памятью и наблюдательностью, представляет замечательный тип даровитого великорусов... Убежденный в справедливости всего, о чем говорится в былинах, он поет их с выражением на лице чувства внутреннего удовольствия, увлекаясь, при поэтической его натуре, в мир фантазии, забывает, кажется, настоящее".
Дом Гуляева был своего рода клубом местной интеллигенции, краеведов, заезжих ученых и путешественников. Их привлекала богатая библиотека, палеонтологическая, археологическая, минералогическая коллекции, а больше всего сам хозяин -- член 11 научных обществ, бескорыстный самоотверженный труженик на пользу родного края.
В 1878 произведен в статские советники, утвержден в звании потомственного дворянина. Похоронен на Нагорном кладбище. В краевом госархиве хранится фамильный фонд Гуляева и его сына Н. С. Гуляева. Основные сочинения: "Былины и песни Южной Сибири. Собрание С. И. Гуляева" (Новосибирск, 1952), "Былины и песни Алтая. Из собрания С. И. Гуляева" (Барнаул, 1988).
В. Ф. Гришаев
Какой бы жизнью ни жил город, а в нем всегда есть дома, в которых теплится притягательный огонек напряженных духовных поисков. Это не те дома, где даются обеды, стоившие по нескольку сот рублей, и дамы блистают петербургскими и парижскими туалетами. С точки зрения материальной они не богаты. Но зато здесь можно увидеть редкую книгу, услышать о новом научном открытии, познакомиться с интересными, часто необыкновенными людьми.
Таков был дом Степана Ивановича Гуляева в Барнауле. В отличие от большинства местных чиновников, Гуляев не только не роскошествовал, но жил бедно. До старости лет приходилось ему думать о том, как прокормить семью. Выразительное тому свидетельство одно из его писем к зятю, живущему в Иркутске: "Не знаю, что мне делать? - писал Степан Иванович. - Было 3 билета внутреннего займа и те заложил. Любезная супруга настаивает, чтобы я продал дом... Предлагать подобное легко, но как исполнять? Да и дом стоит 800 рублей, не больше".
Однако именно в дом Гуляевых стремились не только образованные горожане, но и многочисленные гости. Бывал здесь прославленный Г. Н. Потанин, известный естествоиспытатель Брем, выдающийся французский археолог Менье. Не раз гостил и славный земляк - сказитель из Ересной Леонтий Тупицын. Его былины, в свое время записанные Гуляевым, переиздаются до сих пор...
C. И. Гуляев, чьим именем названа одна из улиц Барнаула, родился в селе Алейском в 1805 году. Отец его был унтер-шихтмейстером на Локтевском сереброплавильном заводе. Окончил Барнаульское горное училище и, как один из самых способных выпускников, был определен на службу в петербургское горное правление в качестве старшего писаря.
Более 30 лет Степан Иванович жил в Петербурге. Дослужился до очень скромного чина коллежского асессора. Но зато другая, внеслужебная его жизнь была богата.
В первые годы он посещал вечерние классы Академии художеств. Позднее, по возвращении в Сибирь, это пригодилось для создания различных зарисовок, карт, чертежей, копирования книжных миниатюр, в том числе из древней книги Космы Индикоплова "Христианская топография", содержащей много уникальных географических сведений. Позже увлекся самыми различными отраслями познания - историей, этнографией, фольклористикой, языкознанием, естественными науками. Много читал и начал собирать личную библиотеку.
Подружился с известным славистом и этнографом академиком И. И. Срезневским, фольклористом П. И. Якуш-киным.
В 1839 году в "Отечественных записках" публикуется первый литературный труд Гуляева "О сибирских круговых песнях". Позже одна за другой выходят его работы, сами названия которых говорят за себя: "О сибирской соли и алтайском ревене", "Очерки Колывано-Воскресенских заводов", "О графите", "Механик Ползунов", "Этнографические очерки южной Сибири".
Однако Алтай и Сибирь не были единственными темами ученого. Гуляев как бы продолжает традиции тех энциклопедистов, о которых говорилось выше. Он создает, например, "Опыт грамматики русского языка".
Эту книгу рецензировал Добролюбов. Кстати, Степан Иванович посещал "субботники" Срезневского, которые посещал и Добролюбов, в то время студент Главного педагогического института и начинающий журналист. Факт личного их знакомства не установлен. На "субботниках" бывало очень много народа, главным образом академики, профессора, "сановники от науки". Известно только, что Добролюбов знал и другую работу Гуляева Этнографические очерки южной Сибири".
С 1859 года Гуляев живет в Барнауле, занимая должность советника частных золотых приисков. Не только теоретические изыскания влекут ученого. Он впервые на Алтае практиковал посевы свеклы, выращивал яблони и другие растения. Он настойчиво ратовал за использование каменного угля в промышленности. Разработал способы изготовления плетеной мебели и соломенных шляп.
Одним из первых Степан Иванович заинтересовался белокурихинскими радоновыми источниками. Привлек внимание к ним ученого мира. Сам выезжал в Белокуриху и даже основал там первую лечебницу.
Большую известность принес ученому открытый им краситель для овчин, о котором было рассказано в связи с развитием овчинно-шубного производства в Барнауле.
Степан Иванович Гуляев состоял членом 11 научных обществ, в том числе Русского энтомологического общества. Берлинского географического общества, Российского общества садоводства.
Он прожил долгую, полную трудов и исканий жизнь. Умер в Барнауле в 1888 году в возрасте 83-х лет.
***
Степан Иванович Гуляев (1804—1888) — исследователь Алтая; историк, этнограф, фольклорист, изобретатель.
Родился в 1804 году на Локтевском заводе Алтайского округа. Двенадцати лет поступил в горнозаводское училище, откуда по окончании курса был послан на службу в Санкт-Петербург при кабинете его величества.
По возвращении в 1869 году в Барнаул Гуляев всецело отдался практической и научной деятельности. Хорошо ознакомившись с естественными и бытовыми условиями Алтая, он положил основание новым промыслам, улучшению культурных растений и разведению новых пород скота и сельскохозяйственных растений. Его дом в Барнауле постоянно посещался как русскими, так и иностранными путешественниками, исследователями Алтая, которые знакомились с чрезвычайно интересными коллекциями хозяина.
Умер в Барнауле в мае 1888 года.
Труды
Кроме массы заметок и корреспонденций по вопросам, касающимся географии, этнографии, археологии и истории края, можно отметить следующие главные работы Гуляева:
«Этнографические очерки Южной Сибири» («Библиотека для чтения», 1848).
«Заметки об Иртыше и странах, им орошаемых».
«О древностях, открываемых в Киргизской степи» («Известия Императорского географического общества», 1851).
«О золотопромышленности».
Из ненапечатанных:
«Историко-статистическое описание г. Барнаула в 1864 г.»
«Собрание былин», записанных на Алтае.
***
Степан Иванович Гуляев - видный исследователь Алтая, историк, этнограф, фольклорист, изобретатель. Родился в с. Алейское, в семье служащего Локтевского завода. По окончании Барнаульское горнйое училище (1827) направлен в Петербург писцом горного отделения Кабинета. Здесь много занимался самообразованием, посещал "субботы" ученого-лингвиста И. И. Срезневского. Через переписку с родными и знакомыми собирал материалы по истории и этнографии Алтая, былины, песни.
Первый очерк "О сибирских круговых песнях" опубликован в журнале "Отечественные записки" (1839), в "Санкт-Петербургских ведомостях" - "Алтайские каменщики" (1845), в "Библиотеке для чтения" - "Этнографические очерки Южной Сибири" (1848), в "Вестнике промышленности" - "О механике Ползунове" (1858). Избран член-корреспондентом Вольного экономического общества (1845), член-сотрудником Российского географического общества. В 1859 назначен советником отделения частных зол. промыслов Алт. горн. правления, переехал в Барнаул.
Наряду с основной службой занимался этнографией, археологией, минералогией, фольклором, селекцией. Первый обратил внимание на Белокурихинские радоновые источники, построил там лечебницу, первый на Алтае осуществил опытные посевы сахарной свеклы, табака, изучал рыболовный промысел. Большую известность принесло Гуляеву изобретение красителя для овчин. Сшитые из них шубы-"барнаулки" пользовались большим спросом не только на Алтае, но и далеко за его пределами. Активный поборник просвещения: в 1862 на свои скромные средства открыл публичную библиотеку (она просуществовала недолго), выступал за открытие гимназии в Барнауле, университета в Сибири, состоял кандидатом в члены Общества попечения о начальном образовании в Барнауле.
Главная заслуга Гуляева - фольклористика. Всю жизнь собирал он народные песни, былины, сказки. Открыл талант сказителя из с. Ерестного (под Барнаулом) Леонтия Тупицына, записал у него более 20 былин. По сведениям М. К. Азадовского, репертуар тупицынской семьи восходил к середине XVIII в., что придавало записям С. И. Гуляева особую ценность.
"Леонтий Гаврилович, обладающий обширной памятью и наблюдательностью, представляет замечательный тип даровитого великорусов... Убежденный в справедливости всего, о чем говорится в былинах, он поет их с выражением на лице чувства внутреннего удовольствия, увлекаясь, при поэтической его натуре, в мир фантазии, забывает, кажется, настоящее".
Дом Гуляева был своего рода клубом местной интеллигенции, краеведов, заезжих ученых и путешественников. Их привлекала богатая библиотека, палеонтологическая, археологическая, минералогическая коллекции, а больше всего сам хозяин -- член 11 научных обществ, бескорыстный самоотверженный труженик на пользу родного края.
В 1878 произведен в статские советники, утвержден в звании потомственного дворянина. Похоронен на Нагорном кладбище. В краевом госархиве хранится фамильный фонд Гуляева и его сына Н. С. Гуляева. Основные сочинения: "Былины и песни Южной Сибири. Собрание С. И. Гуляева" (Новосибирск, 1952), "Былины и песни Алтая. Из собрания С. И. Гуляева" (Барнаул, 1988).
В. Ф. Гришаев
Показать спойлер
про Зубашева Ефима Лукьяновича
(19 (31) января 1860 г. - 19 декабря 1928 г.)
Директора Томского технологического института
с 1899 по 1907 гг.
есть очень достойная страничка на портале ТПУ
Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №260
за Воскресенье, 30-го ноября 1903 года.
в номере:
(19 (31) января 1860 г. - 19 декабря 1928 г.)
Директора Томского технологического института
с 1899 по 1907 гг.
есть очень достойная страничка на портале ТПУ
Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №260
за Воскресенье, 30-го ноября 1903 года.
в номере:
Показать спойлер
Томскій Технологическій Институтъ.
(По поводу 3-ей годовщины).
6 декабри годовщина открытія томскаго технологическаго института. Посвящая одну изъ страницъ нашего изданіи этому учебному заведенію, мы считаемъ полезнымъ указать нашимъ читателямъ на особенности этого заведеніи въ хозяйственномъ и учебномъ строѣ, которыми оно отличается отъ другихъ институтовъ, а также и отъ университетовъ.
Въ нашемъ учебномъ вѣдомствѣ господствуетъ стремленіе установить для всѣхъ школъ по возможности одинъ общій планъ; на разнообразіе мѣстныхъ условій, въ которыхъ поставлена отдѣльная школа, на разнообразіе мѣстныхъ требованій, предъявляемыхъ школѣ въ разныхъ частяхъ имперіи, обращалось мало вниманія. Но такое положеніе дѣла безразлично только для преподаванія чистой математики; уже астрономія не можетъ упускать изъ виду мѣстныхъ условій (различное положеніе звѣздъ, различная степень ясности неба), а біологическія науки еще болѣе. Но для чистыхъ наукъ вредъ отъ этого старанія всѣ школы построить по одному образцу еще не такъ ощутителенъ, какъ для прикладныхъ. Планы преподаванія и внутреннее устройство учебныхъ заведеній съ такимъ утилитарнымъ характеромъ, какъ технологическіе институты, въ особенности не могутъ быть одни и тѣ же для всѣхъ областей Россіи. Прежде, когда почти всѣ спеціальныя училища были сосредоточены только въ столицахъ, заботы о разнообразіи учебныхъ плановъ были не нужны; но когда спеціальныя школы стали возникать въ южной Россіи и на такихъ окраинахъ, какъ Сибирь и Кавказъ, нельзя было не сдѣлать отступленій отъ установившагося плана, пришлось по-неволѣ сообразоваться съ мѣстными условіями.
Томскій технологическій институтъ открытъ въ 1900 году въ составѣ двухъ отдѣленій механическаго и химическаго; съ сентября 1901 г. открыто горное отдѣленіе, а съ сентябри 1902 г. строительное, такъ что въ настоящее время въ институтѣ четыре курса механическаго и химическаго отдѣленій, три курса горнаго и два курса инженерно-строительнаго.
Горное отдѣленіе при открытіи явилось вторымъ учебнымъ заведеніемъ въ имперіи послѣ горнаго института, имѣющимъ цѣлью подготовлять горныхъ инженеровъ. Это первая особенность томскаго института по сравненію съ другими технологическими институтами. При проведеніи устава томскаго технологическаго института въ Государственномъ Совѣтѣ были большія возраженія противъ открытія этого отдѣленія и только благодаря поддержкѣ бывшаго министра финансовъ С. Ю. Витте институтъ былъ утвержденъ съ четырьмя отдѣленіями. Благодаря этому, можно сказать, Сибирь имѣетъ теперь свой горный институтъ, потому что права горныхъ инженеровъ, которые будутъ выходить изъ горнаго отдѣленія, не отличаются отъ правъ инженеровъ, кончающихъ въ Петербургскомъ институтѣ.
Переходимъ къ другимъ особенностямъ положенія Томскаго института.
Въ другихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія для занятія кафедры по спеціальному предмету не требуется ничего кромѣ окончанія курса въ высшемъ учебномъ заведеніи. Въ томскомъ институтѣ есть особенность; по § 8 положенія этого института кафедры могутъ быть замѣщаемы только лицами, имѣющими ученыя степени или же по спеціальнымъ предметамъ лицами, выдержавшими испытанія и защитившими диссертаціи и только въ исключительныхъ случаяхъ согласно § 9 право на занятіе кафедры можетъ быть предоставлено безъ защиты диссертаціи
лицамъ, пріобрѣтшимъ извѣстность практическими работами или научными трудами.
Замѣщеніе свободныхъ каѳедръ въ институтѣ производится по конкурсу. По университетскому уставу конкурсъ объявляется только съ разрѣшенія министра, который по донесеніи ему о существованіи вакантной кафедры или замѣщаетъ ее по своему усмотрѣнію или предлагаетъ объявить конкурсъ. Въ томскомъ же институтѣ согласно § 16 положенія при открытіи вакансіи директоръ обязанъ объявить о вакантной каѳедрѣ во всеобщее свѣдѣніе, дабы желающіе явиться кандидатами смогли заявить о томъ совѣту института и представить свои ученые труды.
Самое управленіе институтомъ установлено нѣсколько отлично отъ другихъ учебныхъ заведеній. Управленіе институтомъ ввѣряется директору при участіи въ подлежащихъ случаяхъ совѣта, собраній отдѣленій и комитетовъ хозяйственнаго и по студенческимъ дѣламъ. Исключительной особенностью въ этомъ положеніи является учрежденіе комитета по студенческимъ дѣламъ (§ 49), вѣдающаго распредѣленіемъ стипендій и пособій между студентами, а также освобожденіемъ ихъ отъ платы за ученіе; тотъ же комитетъ до начала прошлаго учебнаго 1902/з года вѣдалъ также и дисциплинарную часть по отношенію къ студентамъ; съ начала же прошлаго учебнаго года вся дисциплинарная часть передана вновь учрежденному профессорскому суду.
По университетскому уставу всѣ дѣла студенческія (за исключеніемъ учебныхъ, подлежащихъ вѣдѣнію факультетовъ) подлежатъ вѣдѣнію правленія, въ составъ котораго входятъ ректоръ, деканы и инспекторъ. По положенію о томскомъ институтѣ директоръ и деканы образуютъ хозяйственный комитетъ, въ составъ же комитета по студенческимъ дѣламъ входятъ кромѣ директора, декановъ, инспектора еще секретари отдѣленій, то есть лица, согласно § 44, избираемыя профессорской коллегіей.
По сравненію съ университетскимъ уставомъ существенное отличіе заключается еще въ томъ, что инспекторъ студентовъ подчиненъ вполнѣ директору, такъ какъ по § 41 ему ввѣряется надзоръ за поведеніемъ студентовъ подъ руководствомъ директора. Кромѣ того по § 23 избраніе инспектора предоставлено директору, тогда какъ по университетскому уставу инспекторъ избирается попечителемъ и представляетъ собою органъ не вполнѣ подчиненный ректору, а дѣлающій самостоятельные доклады. попечителю округа о положеніи дѣлъ въ университетѣ.
Вслѣдствіе такого двоевластія въ университетахъ возможны да зачастую и бываютъ совершенно неудобныя коллизіи.
Что касается штата, то по примѣру томскаго университета содержаніе профессорамъ назначено полуторное по сравненію съ содержаніемъ профессоровъ высшихъ учебныхъ заведеній европейской Россіи. Полный годовой бюджетъ института 364.750 рубл. Въ статьѣ хозяйственные расходы имѣется ассигнованіе на ученыя командировки по Сибири *).
Относительно учебнаго плана института надо отмѣтить предположенную и ранѣе составителемъ проекта устава и разрабатываемую въ настоящее время по частямъ спеціализацію предметовъ, заключающуюся въ томъ, что студенты даннаго отдѣленія не обязаны слушать и сдавать экзамены по всѣмъ спеціальнымъ предметамъ, входящимъ въ учебный планъ даннаго отдѣленія, а только извѣстную группу предметовъ. Эта спеціализація начинается только съ IV курса и въ настоящемъ году примѣнена къ IV курсу механическаго и химическаго отдѣленій, причемъ на ІV курсѣ механическаго отдѣленія выдѣлены три спеціальныя группы предметовъ: I машиностроительная и фабрично-заводская, II желѣзнодорожная и III электрикотехническая. Студенты, записавшіеся на I группу, не слушаютъ спеціальныхъ курсовъ паровозовъ, электротехники (общіе краткіе курсы по этимъ предметамъ обязательны для всѣхъ); студенты, записавшіеся во вторую группу, не слушаютъ отдѣльныхъ курсовъ мукомольнаго дѣла, заводскихъ машинъ, электротехники, а записавшіеся въ третью группу не слушаютъ мукомольнаго дѣла, заводскихъ машинъ, паровозовъ. На химическомъ отдѣленіи два подъотдѣла; студенты перваго спеціализируются по металлургіи и потому не слушаютъ отдѣлы химической технологіи, касающейся сельскохозяйственной промышленности и наоборотъ. Этой факультативностью учебнаго плана томскій институтъ отличается отъ всехъ другихъ институтовъ.
Если въ томскомъ институтѣ оказывается болѣе затруднительнымъ, чѣмъ въ институтахъ европейской Россіи, поставить на надлежащую высоту лекціонную часть по мѣстнымъ культурнымъ условіямъ, за то здѣсь придано большое значеніе практическимъ занятіямъ въ лабораторіяхъ, въ кабинетахъ и въ аудиторіяхъ (по математикѣ, механикѣ и пр.). По мнѣнію совѣта такія занятія облегчаютъ усвоеніе предмета и дисциплинируютъ студента, пріучая его къ систематическому веденію своихъ занятій. Вслѣдствіе такого взгляда совѣта на практическія занятія въ томскомъ технологическомъ институтѣ совершенно выброшены еженедѣльныя репетиціи, существующія въ Петербургскомъ, Харьковскомъ институтахъ и въ Императ. московскомъ техническомъ училищѣ. Сообразно съ этимъ взглядомъ совѣта предположено широкое устройство и оборудованіе значительнаго числа лабораторій по многочисленнымъ спеціальностямъ.
Общая стоимость полнаго устройства института, какъ выяснилось въ настоящее время, будетъ свыше 3.000.000 рублей, а именно стоимость построекъ будетъ равна 2.000.000 рубл. и стоимость оборудованія 536.000 рублей. Эта стоимость не превышаетъ стоимость другихъ высшихъ техническихъ школь однороднаго типа; такъ по недавно вышедшему отчету стоимость устройства кіевскаго политехникума равна 2.970.000 рубл., т. е. та же почти стоимость, что и томскаго института, не смотря на то, что Томскъ сильно переплачиваетъ по тарифамъ на всемъ, что доставляется съ Урала и изъ-за Урала. Стоимость устройства варшавскаго политехникума выше 3 милл., а стоимость петербургскаго политехникума превзойдетъ эту цифру раза въ три.
Въ настоящее время въ институтѣ состоитъ 824 студента, при чемъ только около одной трети уроженцевъ азіатской Россіи или окончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній этого края (Сибирь, Туркестанъ и Закавказье), а остальные изъ европейской Россіи. Наиболѣе многолюдными являются механическое и горное отдѣленія, а далѣе слѣдуетъ строительное и химическое.
Что касается профессорскаго персонала, то не смотря на повышенные оклады и на повышенные размѣры пенсій, никто изъ занимающихъ кафедры въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ европейской Россіи не перешелъ въ томскій институтъ.
Тѣмъ не менѣе кафедры по теоретическимъ предметамъ по большей части заняты лицами, имѣющими ученыя степени, требуемыя § 8 положенія института; на спеціальныя кафедры избраны по преимуществу молодые инженеры, спеціально подготовлявшіеся для томскаго технологическаго института.
Нельзя не отмѣтить крайнюю необезпеченность студентовъ томскаго института. Въ настоящее время въ институтѣ 824 студента, а предполагается въ будущемъ до 1200 и на это число имѣется всего 50 казенныхъ стипендій и 50 безплатныхъ мѣстъ обученія. Кромѣ казенныхъ стипендій есть еще 4 стипендіи города Томска, одна города Красноярска, одна города Омска и одна города Петропавловска, то есть Всего 57 стипендій на 1200 студентовъ или менѣе пяти стипендій на сто студентовъ. Это крайне мало.
Эти печальныя цифры показываютъ, какъ, къ сожалѣнію, безучастно и холодно пока относится сибирское населеніе къ высшему учебному заведенію своей области. Но такое отношеніе не должно длиться долго и мы надѣемся, что молодой институтъ завоюетъ симпатіи въ обществѣ. Не хорошо, если школа представляется постороннимъ тѣломъ въ организмѣ области, не связаннымъ съ нимъ духовными связями, если школа относится безъ уваженія къ духовнымъ нуждамъ мѣстнаго общества и игнорируетъ его симпатіи; еще прискорбнѣе, конечно, бываетъ если школа относится недружелюбно къ мѣстному обществу, а что это бывало иногда, фактъ извѣстный; можетъ быть, бывало это и въ Томскѣ. Къ счастью для молодого института его жизнь начинается при такой благопріятной духовной обстановкѣ, что мы можемъ твердо надѣяться на развитіе теплыхъ отношеній между школой и обществомъ, что съ одной стороны въ обществѣ возникнетъ глубокая симпатія къ институту, которая выразится въ посильныхъ пожертвованіяхъ на него, съ другой—институтъ получитъ значеніе областного учрежденія.
---------------
*)8000 рублей по положенію.
****
Изъ cказокъ сибирской дѣйствительности.
ВОЙЦЕХЪ ЛЕСЮКЪ
(Окончаніе,— см. № 254).
На слѣдующій день Савицкій съ утра отправился на охоту. О Лесюкѣ онъ не безпокоился. Подумавъ, онъ рѣшилъ, что Войцехъ отправился за косой и серпами либо въ городъ, либо къ пригороднымъ скопцамъ. День выдался хорошій. Легкій вѣтерокъ медленно шевелилъ вѣтками тяжеловѣсной лиственницы; гдѣ-то стучалъ дятелъ, стрекотали и звенѣли насѣкомыя... Савицкій, бодрый, жизнерадостный шелъ слѣдомъ за собакой, медленно трусившей впереди... Вдругъ собака остановилась, насторожила уши и залаяла. Онъ прикрикнулъ на нее и привычнымъ движеніемъ снялъ съ плеча ружье. Собака не унималась и продолжала лаять. До слуха Савицкаго долетѣли звуки пѣсни. Закинувъ опять ружье за плечо, онъ остановился...
— Тубо!—вторично прикрикнулъ онъ на собаку и двинулся впередъ на встрѣчу голосамъ,
а минуту спустя,, уже наткнулся на пьяныхъ поселенцевъ. Собака, увидѣвъ русскихъ, весело завиляла хвостомъ. Среди пьяныхъ Савицкій увидѣлъ Лесюка и невольно остановился...
А Войцехъ, какъ воръ, пойманный съ поличнымъ, замѣтно смутился, опустилъ глаза долу и, опередивъ компанію, подошелъ къ Савицкому.
— Будьте спокойны!.. Какъ только пора настанетъ, я прійду работать.
— Ваше дѣло!—холодно отвѣтилъ Савицкій и пошелъ дальше.
Прекратившіе пѣніе, стоявшіе немного поодаль, поселенцы начали подтрунивать надъ Лесюкомъ.
— Попался, земледѣлецъ!
— Ладно въ кабалу попалъ!...
— Плеваць я хотѣлъ на него... Тьфу!.. Я не подданный, а онъ не панъ!... Давайте пѣть.
Савицкому было непріятно. Онъ не разсчитывалъ, конечно, что Лесюкъ сразу перемѣнился и изъ обычнаго поселенца сдѣлался заправскимъ пахаремъ, для котораго съ посѣяннымъ клочкомъ земли связано всё, но ему казалось, что до уборки хлѣба у Войцеха въ этомъ клочкѣ весь смыслъ жизни, что „своя пашня убережетъ его отъ минутныхъ соблазновъ, а тамъ... послѣ жнитва опять что нибудь скраситъ жизнь поселенца и онъ мало по малу отобьется отъ прежней компаніи, отъ прежнихъ привычекъ...
Мысль передѣлать человѣка и исправить такъ соблазнительна...
Видъ пьянаго Войцеха сразу разрѣшилъ всѣ иллюзіи Савицкаго. Онъ по прежнему продолжалъ бродить но лѣсу, но прежняго бодраго настроенія уже не было. На душѣ было скверно. Увидѣвъ лежавшее поперекъ лѣсной тропинки поваленное вѣтромъ и уже покрытое мягкимъ бархатистымъ мохомъ дерево, онъ присѣлъ, спугнувъ при этомъ стаю муравьевъ, копошившихся надъ прошлогодней засохшей ягодой брусники... Отдохнувъ немного, онъ повернулъ къ дому и совершенно безсознательно поплелся на пашню. Надъ ней, издали видное, торчало принесенное теченіемъ дерево и сразу приковывало къ себѣ вниманіе. Вспомнивъ, какъ Лесюкъ волновался во время разлива Лены, Савицкій съ горькимъ чувствомъ обиды и разочарованія сѣлъ, было, на покрытый зеленью островокъ, но тотчасъ-же вскочилъ, услышавъ подозрительный шорохъ. Онъ нагнулся и увидѣлъ несмѣтное количество прыгающей кобылки...
Въ одну секунду онъ очутился возлѣ изгороди, перелѣзъ черезъ неё и нагнулся надъ хлѣбомъ: кобылка шуршала и тамъ. Взволнованный, онъ обошелъ всю пашню и при каждомъ его шагѣ кобылка фонтаномъ вылетала изъ подъ его ногъ и разсыпалась въ разныя стороны. Весь хлѣбъ былъ со всѣхъ сторонъ окруженъ этимъ мелкимъ, но страшнымъ врагомъ. Савицкій зналъ, что борьба невозможна и, тѣмъ не менѣе, ому казалось, что Лесюкъ могъ-бы что нибудь придумать... Но Лесюкъ быль пьянъ. Въ душѣ Савицкаго закипало противъ него раздраженіе... Онъ сердито перелѣзъ черезъ изгородь и зашагалъ домой.
— Мнѣ какое дѣло! Пусть дѣлаетъ, какъ знаетъ!...
VI.
Къ утру Лесюкъ протрезвился. На полу, разметавшись, лежали, громко всхрапывая, его товарищи; на столѣ манила глазъ недопитая наканунѣ бутылка...
Леси жъ всталъ, налилъ себѣ чашку водки и выпилъ. Ему кикъ будто легче стало, въ головѣ прояснилось, онъ вспомнилъ вчерашнюю встрѣчу съ Савицкимъ и ему стало неловко...
Онъ вышелъ изъ юрты и тихо побрелъ...
Мысль о пашнѣ опять привела его въ хорошее настроеніе и вызвала въ немъ новый , приливъ энергіи и добрыхъ намѣреній.
— Теперь баста! Ни одной рюмки больше!..
И по мѣрѣ того, какъ онъ приближался къ пашнѣ, власть надъ нимъ водки уступала мѣсто власти земли.
Онъ думалъ о будущемъ урожаѣ, о золотистыхъ колосьяхъ, о полномъ, крупномъ, какъ жемчугъ, зернѣ.
Впереди, въ синей дымкѣ дали, уже обозначились уродливые щупальца памятнаго дерева, какъ будто стоявшаго на стражѣ пашни. Наглядѣвшись на него, Лесюкъ оступился въ овражью норку и чуть не упалъ...
Оглянувшись, онъ остолбенѣлъ отъ ужаса: въ травѣ копошились тысячи кобылокъ.
— Боже мой! Боже мой! шепталъ онъ поблѣднѣвшими губами, не рѣшаясь пройти сотни шаговъ, отдѣлившихъ его отъ пашни...
А кобылки у его ногъ шуршали, прыгали и плясали, радуясь солнцу и зелени.
Сдѣлавъ надъ собой нечеловѣческое усиліе, Лесюкъ подбѣжалъ къ изгороди, перегнулся черезъ нее, и такъ и застылъ,
На всемъ протяженіи пашни усиленно работали кобылка. Сѣвъ на то-же мѣсто, гдѣ наканунѣ сидѣлъ Савицкій, Лесюкъ тупо глядѣлъ на чернѣвшія уже среди зелени всходовъ лысины. Во рту у него пересохло, въ головѣ было пусто, мозгъ, какъ будто, совершенно пересталъ работать...
Время шло. Солнце все жарче жгло его обнаженную голову. Онъ ничего не чувствовалъ. Невдалекѣ табунъ стройныхъ кобылъ съ жеребятами, подъ зоркимъ наблюденіемъ жеребца, пощипывалъ траву, медленно, почти незамѣтно подвигаясь въ сторону лѣса... Лесюкъ не видѣлъ и его. Изъ оцѣпенѣнія его вывела миленькая стройная, зеленая кобылка, напоминающая крохотную жабку, впрыгнувшая къ нему на руку... Онъ вздрогнулъ, какъ хищникъ, вцѣпился пальцами въ это крохотное созданіе, проткнулъ его иглой сосны и пустилъ...— Bотъ тебѣ за мой хлѣбъ!—зло проводилъ онъ насѣкомое и, словно это доставляло ему облегченіе, съ невѣроятной ловкостью набросился на копошившихся кобылокъ, ловилъ ихъ и протыкалъ сосновой хвоей. Вскорѣ это его утомило.
— Съ ума сошелъ, чи что?—остановилъ онъ самого себя, поднимаясь съ земли.
Онъ оглянулся. Глаза его наткнулись на щипавшій траву табунъ.
— Добрые кони... одобрилъ онъ табунъ, въ первый моментъ почти не думая о томъ, что говоритъ, но въ ту-же секунду звукъ произнесенныхъ имъ словъ, какъ-бы въ дѣйствительности приковалъ его вниманіе къ табуну... Застывшая на время мысль поселенца начала работать съ страшной быстротой... На лицѣ Лесюка появилась лукавая улыбка. Онъ поднялъ голову и взглянулъ на солнце.
— Съ часъ еще здѣсь пробудутъ... Успѣемъ!..
Онъ сразу преобразился и бѣгомъ бросился къ себѣ въ юрту...
VII.
Четверть часа спустя, Лесюкъ съ компаніей поселенцевъ мчался обратно въ сторону пашни На разстояніи ста шаговъ отъ табуна бѣжавшіе остановились и, озираясь по сторонамъ, начали окружать табунъ... Лесюкъ подбѣжалъ къ изгороди и, навалившись на нее, опрокинулъ одно звено. Входъ на пашню былъ свободенъ. Поселенцы медленно суживали кругъ, оцѣпляя табунъ съ трехъ сторонъ... Жеребецъ, поднявъ голову и увидѣвъ идущихъ, встряхнулъ гривой, заржалъ и двинулся впередъ, подозрительно оглядываясь: слѣдомъ за нимъ, легко ступая, слѣдовали его подруги, а за ними, уморительно подпрыгивая и путаясь среди взрослыхъ, бѣжали и жеребята. Поселенцы, шедшіе сзади, ускорили шаги, шедшіе съ боку загикали... Жеребецъ понесся во весь махъ. Гикая и широко разставляя руки, поселенцы направляли его въ сторону пашни. Былъ моментъ, когда табунъ чуть не вырвался на волю, но во время брошенная Лесюкомъ щепка помогла дѣлу, и животныя, тѣснясь въ продѣланныхъ Лесюкомъ воротахъ и напирая другъ ни друга, протискивались на пашню...
— Язви тебя, панъ! Ловко ты это надумалъ...
— Теперь, паря, дуй не стой къ тойону! *)
Вспотѣвшіе, красные, запыхавшіеся поселенцы громко хохотали.
— Онъ тя и за кобылку и за все наградить...
Лесюкъ ушелъ. Поселенцы легли возлѣ продѣланнаго имъ отверстія.
— Кушайте, миленькія—острили они. — Хозяину не дешево нашъ кормъ достанется...
— А не пущай лошадей вольно...
Явившійся съ Лесюкомъ якутъ окинулъ компанію подозрительнымъ взглядомъ. Онъ, не спѣша, слѣзъ съ лошади и осмотрѣлъ поваленную изгородь.
— Гляди, гляди, черноносый! — бурчалъ себѣ въ усъ одинъ изъ поселенцевъ.
— Много ты понимать...
Но „черноносый“ понялъ, что тутъ что- то неладно. Онъ не понималъ лишь одного, какая корысть поселенцамъ загонять табунъ на собственную пашню и съ недоумѣніемъ переводилъ маленькіе прищуренные глаза съ одного поселенца на другого. Завязался разговоръ на русско-якутскомъ жаргонѣ. Поселенцы встали. Лесюкъ запросилъ за потраву 25 рублей; якутъ предлагалъ безменъ масла. За споромъ никто изъ нихъ не замѣтилъ подходившаго къ нимъ Савицкаго, который шелъ смотрѣть на опустошеніе, произведенное за ночь кобылкой. Увидѣвъ на пашнѣ табунъ лошадей и людей горячо спорившихъ и, уловивъ изъ отдѣльныхъ словъ, въ чемъ дѣло, онъ вплотную подошелъ къ нимъ.
— Здравствуйте!
Якутъ обрадовался ему, какъ родному.— Въ чемъ у васъ тутъ дѣло?
— Табунъ захватили въ хлѣбѣ,—не глядя на него, отвѣтилъ Лесюкъ.
— Весь хлѣбъ истоптали, a онъ безменъ масла сулитъ...
— И этого не стоитъ! Весь хлѣбъ изъѣденъ кобылкой... Я самъ вчера видѣлъ.
— Вамъ не стоитъ, а мнѣ стоитъ...
— Пашня столь-же моя, сколь и ваша...— холодно перебилъ его Савицкій... Я ее вчера осматривалъ и убѣдился, что весь хлѣбъ пропалъ... Якуту не за что вамъ платить...
Тойонъ съ широко открытыми глазами прислушивался къ разговору. Съ первыхъ словъ Станислава онъ понялъ, въ чемъ дѣло, и теперь, схвативъ Савицкаго на руку, подвелъ его къ изгороди, нагнулся надъ поваленными жердями и указывалъ на то, что на нихъ нѣтъ шерсти.
— Табунъ еще окончательно не вылинялъ... Если бы жеребецъ повалилъ изгородь, на жердяхъ была бы шерсть. Сами повалили!
— Какъ вамъ не стыдно!—съ упрекомъ въ голосѣ обратился Савицкій къ Лесюку.
— Возьми коней,— сказалъ онъ якуту.
Тойонъ не заставилъ себѣ этого повторять дважды. Онъ вскочилъ на коня и въѣхалъ на пашню.
Савицкій развалилъ еще въ двухъ мѣстахъ изгородь и забранный въ плѣнъ табунъ вырвался ни волю..
Поселенцы выжидательно глядѣли на Лесюка, но онъ, опустивъ глаза въ землю, не сдѣлалъ ни одного жеста сопротивленія.
Савицкій медленно, ни съ кѣмъ не прощаясь, побрелъ обратно въ свою юрту.
Кратковременная дружба земляковъ кончилась.
К. О. Н.
******
Къ рисункамъ.
Къ 25-лѣтію высшихъ женскихъ курсовъ въ Петербургѣ
Высшіе женскіе курсы въ Петербургѣ.
Давая въ настоящемъ номерѣ нѣсколько рисунковъ по поводу 25-ти лѣтія высшихъ женскихъ курсовъ въ Петербургѣ, считаемъ не лишнимъ познакомить читателей съ краткой исторіей послѣднихъ. Въ одномъ изъ предыдущихъ номеровъ „Сиб. Ж." мы уже говорили, что мысль о необходимости высшаго образованія для русскихъ женщинъ родилась въ свѣтлые 60-тые годы, но прочное реальное осуществленіе эта мысль получила лишь въ 1878 г., когда были открыты курсы, справляющіе нынѣ свой 25-тялѣтній юбилей. Своимъ открытіемъ курсы обязаны кружку интеллигентныхъ женщинъ, въ который входили: Е И. Конради, H. В Стасова, В Тарновская, Е. И. Воронина, О. А Мордвинова, А П. Философова и М. В Трубникова. Кромѣ этихъ лицъ курсы и своимъ возникновеніемъ и своимъ процвѣтаніемъ много обязаны энергіи А. Н. Бекетова, О. О. Миллера, А Я Герда. А. Н Страннолюбскаго и K. Н. Бестужева-Рюмина. Послѣдній былъ первымъ главою педагогическаго совѣта курсовъ и вложилъ въ дѣло устройства ихъ столько труда, что наименованіе курсовъ „бестужевскими", наименованіе, сохранившееся до сихъ поръ, является какъ нельзя болѣе справедливымъ. Много труда и энергіи вложила въ дѣло устройства курсовъ и H. В. Стасова, бывшая первой „распорядительницей курсовъ".
Открылись курсы при наличности 814 слушательницъ, число—ярко показывающее, насколько въ то время назрѣла на Руси необходимость высшаго образованія для женщины. Въ началѣ курсы помѣщались въ наемныхъ зданіяхъ, но съ теченіемъ времени, когда открытое почти одновременно съ курсами „общество для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ", имѣвшее въ годъ открытія 89 членовъ, a въ 1890 г. уже 1026 членовъ, окрѣпло, явилась возможность пріобрѣсти собственное зданіе. Изъ помѣщаемаго здѣсь снимка читатели могутъ видѣть,—въ какомъ роскошномъ собственномъ зданіи помѣщаются въ настоящее время курсы.
Общее управленіе курсами было возложено на коллегіальное установленіе—педагогическій совѣтъ; ближайшее же наблюденіе за слушательницами и всѣ хлопоты по внутренней жизни курсовъ были поручены „распорядительницѣ курсовъ". Курсы открылись при 3-хъ отдѣленіяхъ: словесно-историческомъ, физико-математическомъ и спеціально-математическомъ. Курсъ преподаванія былъ въ началѣ трехлѣтній, а съ 1881 г. былъ прибавленъ 4-й годъ. Въ 1886 г. курсы пережили кризисъ: въ этомъ году м—ство народн, просвѣщенія предписало прекратить пріемъ слушательницъ на курсы на томъ основаніи, что рѣшено было подвергнуть пересмотру вопросъ о высшемъ женскомъ образованіи. Въ 1889 г. пріемъ былъ возобновленъ, но курсы получили новую организацію. Завѣдываніе курсами перешло изъ рукъ общества, ихъ создавшаго («педагогическій совѣтъ" старыхъ курсовъ составляли именно тѣ лица, по иниціативѣ которыхъ, возникли курсы), въ руки особаго директора. Вмѣсто прежней "распорядительницы курсовъ" учреждена была должность инспектрисы. Измѣнены было, и самыя программы преподаванія.
Въ такомъ измѣнённомъ видѣ курсы существуютъ понынѣ и являются почти единственнымъ на всю Россію высшимъ женскимъ учебнымъ заведеніемъ общеобразовательнаго характера. За 25 лѣтъ своего существованія курсы выпустили не одну сотню молодыхъ русскихъ женщинъ съ высшимъ образованіемъ и, нужно надѣяться, выпустятъ еще тысячи и тысячи. И чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Чѣмъ свѣтлѣе будетъ у насъ на Руси, тѣмъ лучше будетъ и самая наша жизнь. Пусть-же процвѣтаютъ курсы, являющіеся однимъ изъ источниковъ итого свѣта.
Новости наукъ и изобрѣтеній.
— Недавно сдѣлано изобрѣтеніе въ телефонной техникѣ, которое, если оправдаются возлагаемыя на него ожиданія, произведетъ цѣлый переворотъ въ телефонія. Дѣло идетъ объ автоматическомъ соединеніи аппаратовъ.
Въ настоящее время вызовъ нумера является наиболѣе непріятной частью разговора по телефону. Часто вызываютъ не тотъ нумеръ, часто не даютъ договорить прерываютъ посреди разговора. Все это устранится при новой системѣ. Уже давно пытались устроить автоматическое сообщеніе, но все безуспѣшно, дока за дѣло не ваялся американецъ Альмонъ Страуджеръ; его система усовершенствована братьями Эриксонъ и Кейтомъ, такъ что теперь она теоретически должна быть пригодна для телефонной сѣти въ100,000 абонентовъ. Практически система испытывается въ настоящее время въ Берлинѣ на 460 аппаратахъ. Технически новый способъ соединенія очень простъ Новые аппараты будутъ снабжены, кромѣ обычныхъ составныхъ частей телефона (микрофона, трубки, звонка), ещё круглымъ металлическимъ кружкомъ, по краю котораго расположено десять отверстій съ цифрами 1, 2... 9, 0. Если, напримѣръ, нужно вызвать № 4782, то дѣлаютъ такъ: вкладываютъ палецъ сначала въ отверстіе четыре и поворачиваютъ кружокъ до тѣхъ поръ, пока онъ не остановится Онъ сейчасъ же, возвращается въ первоначальное положеніе; затѣмъ тѣмъ же порядкомъ поступаютъ съ цифрами 7, 3, 2. Послѣ этого стоитъ подавить кнопку, и желаемый нумеръ вызванъ. Если нумеръ занятъ, то на какой-нибудь цифрѣ кружокъ не повернется. Новый аппаратъ имѣетъ то удобство, что разговоръ, не можетъ быть ни прерванъ, ни перехваченъ.
Двухслойный pdf (текст под картинками)
https://yadi.sk/i/Wb7FW99OrG29S
pdf без маски (текст и картинки)
https://yadi.sk/i/0e3mh0cZrG2C5
Двухслойный pdf (текст поверх картинок)
https://yadi.sk/i/VRwMw-lDrG2As
(По поводу 3-ей годовщины).
6 декабри годовщина открытія томскаго технологическаго института. Посвящая одну изъ страницъ нашего изданіи этому учебному заведенію, мы считаемъ полезнымъ указать нашимъ читателямъ на особенности этого заведеніи въ хозяйственномъ и учебномъ строѣ, которыми оно отличается отъ другихъ институтовъ, а также и отъ университетовъ.
Въ нашемъ учебномъ вѣдомствѣ господствуетъ стремленіе установить для всѣхъ школъ по возможности одинъ общій планъ; на разнообразіе мѣстныхъ условій, въ которыхъ поставлена отдѣльная школа, на разнообразіе мѣстныхъ требованій, предъявляемыхъ школѣ въ разныхъ частяхъ имперіи, обращалось мало вниманія. Но такое положеніе дѣла безразлично только для преподаванія чистой математики; уже астрономія не можетъ упускать изъ виду мѣстныхъ условій (различное положеніе звѣздъ, различная степень ясности неба), а біологическія науки еще болѣе. Но для чистыхъ наукъ вредъ отъ этого старанія всѣ школы построить по одному образцу еще не такъ ощутителенъ, какъ для прикладныхъ. Планы преподаванія и внутреннее устройство учебныхъ заведеній съ такимъ утилитарнымъ характеромъ, какъ технологическіе институты, въ особенности не могутъ быть одни и тѣ же для всѣхъ областей Россіи. Прежде, когда почти всѣ спеціальныя училища были сосредоточены только въ столицахъ, заботы о разнообразіи учебныхъ плановъ были не нужны; но когда спеціальныя школы стали возникать въ южной Россіи и на такихъ окраинахъ, какъ Сибирь и Кавказъ, нельзя было не сдѣлать отступленій отъ установившагося плана, пришлось по-неволѣ сообразоваться съ мѣстными условіями.
Томскій технологическій институтъ открытъ въ 1900 году въ составѣ двухъ отдѣленій механическаго и химическаго; съ сентября 1901 г. открыто горное отдѣленіе, а съ сентябри 1902 г. строительное, такъ что въ настоящее время въ институтѣ четыре курса механическаго и химическаго отдѣленій, три курса горнаго и два курса инженерно-строительнаго.
Горное отдѣленіе при открытіи явилось вторымъ учебнымъ заведеніемъ въ имперіи послѣ горнаго института, имѣющимъ цѣлью подготовлять горныхъ инженеровъ. Это первая особенность томскаго института по сравненію съ другими технологическими институтами. При проведеніи устава томскаго технологическаго института въ Государственномъ Совѣтѣ были большія возраженія противъ открытія этого отдѣленія и только благодаря поддержкѣ бывшаго министра финансовъ С. Ю. Витте институтъ былъ утвержденъ съ четырьмя отдѣленіями. Благодаря этому, можно сказать, Сибирь имѣетъ теперь свой горный институтъ, потому что права горныхъ инженеровъ, которые будутъ выходить изъ горнаго отдѣленія, не отличаются отъ правъ инженеровъ, кончающихъ въ Петербургскомъ институтѣ.
Переходимъ къ другимъ особенностямъ положенія Томскаго института.
Въ другихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣщенія для занятія кафедры по спеціальному предмету не требуется ничего кромѣ окончанія курса въ высшемъ учебномъ заведеніи. Въ томскомъ институтѣ есть особенность; по § 8 положенія этого института кафедры могутъ быть замѣщаемы только лицами, имѣющими ученыя степени или же по спеціальнымъ предметамъ лицами, выдержавшими испытанія и защитившими диссертаціи и только въ исключительныхъ случаяхъ согласно § 9 право на занятіе кафедры можетъ быть предоставлено безъ защиты диссертаціи
лицамъ, пріобрѣтшимъ извѣстность практическими работами или научными трудами.
Замѣщеніе свободныхъ каѳедръ въ институтѣ производится по конкурсу. По университетскому уставу конкурсъ объявляется только съ разрѣшенія министра, который по донесеніи ему о существованіи вакантной кафедры или замѣщаетъ ее по своему усмотрѣнію или предлагаетъ объявить конкурсъ. Въ томскомъ же институтѣ согласно § 16 положенія при открытіи вакансіи директоръ обязанъ объявить о вакантной каѳедрѣ во всеобщее свѣдѣніе, дабы желающіе явиться кандидатами смогли заявить о томъ совѣту института и представить свои ученые труды.
Самое управленіе институтомъ установлено нѣсколько отлично отъ другихъ учебныхъ заведеній. Управленіе институтомъ ввѣряется директору при участіи въ подлежащихъ случаяхъ совѣта, собраній отдѣленій и комитетовъ хозяйственнаго и по студенческимъ дѣламъ. Исключительной особенностью въ этомъ положеніи является учрежденіе комитета по студенческимъ дѣламъ (§ 49), вѣдающаго распредѣленіемъ стипендій и пособій между студентами, а также освобожденіемъ ихъ отъ платы за ученіе; тотъ же комитетъ до начала прошлаго учебнаго 1902/з года вѣдалъ также и дисциплинарную часть по отношенію къ студентамъ; съ начала же прошлаго учебнаго года вся дисциплинарная часть передана вновь учрежденному профессорскому суду.
По университетскому уставу всѣ дѣла студенческія (за исключеніемъ учебныхъ, подлежащихъ вѣдѣнію факультетовъ) подлежатъ вѣдѣнію правленія, въ составъ котораго входятъ ректоръ, деканы и инспекторъ. По положенію о томскомъ институтѣ директоръ и деканы образуютъ хозяйственный комитетъ, въ составъ же комитета по студенческимъ дѣламъ входятъ кромѣ директора, декановъ, инспектора еще секретари отдѣленій, то есть лица, согласно § 44, избираемыя профессорской коллегіей.
По сравненію съ университетскимъ уставомъ существенное отличіе заключается еще въ томъ, что инспекторъ студентовъ подчиненъ вполнѣ директору, такъ какъ по § 41 ему ввѣряется надзоръ за поведеніемъ студентовъ подъ руководствомъ директора. Кромѣ того по § 23 избраніе инспектора предоставлено директору, тогда какъ по университетскому уставу инспекторъ избирается попечителемъ и представляетъ собою органъ не вполнѣ подчиненный ректору, а дѣлающій самостоятельные доклады. попечителю округа о положеніи дѣлъ въ университетѣ.
Вслѣдствіе такого двоевластія въ университетахъ возможны да зачастую и бываютъ совершенно неудобныя коллизіи.
Что касается штата, то по примѣру томскаго университета содержаніе профессорамъ назначено полуторное по сравненію съ содержаніемъ профессоровъ высшихъ учебныхъ заведеній европейской Россіи. Полный годовой бюджетъ института 364.750 рубл. Въ статьѣ хозяйственные расходы имѣется ассигнованіе на ученыя командировки по Сибири *).
Относительно учебнаго плана института надо отмѣтить предположенную и ранѣе составителемъ проекта устава и разрабатываемую въ настоящее время по частямъ спеціализацію предметовъ, заключающуюся въ томъ, что студенты даннаго отдѣленія не обязаны слушать и сдавать экзамены по всѣмъ спеціальнымъ предметамъ, входящимъ въ учебный планъ даннаго отдѣленія, а только извѣстную группу предметовъ. Эта спеціализація начинается только съ IV курса и въ настоящемъ году примѣнена къ IV курсу механическаго и химическаго отдѣленій, причемъ на ІV курсѣ механическаго отдѣленія выдѣлены три спеціальныя группы предметовъ: I машиностроительная и фабрично-заводская, II желѣзнодорожная и III электрикотехническая. Студенты, записавшіеся на I группу, не слушаютъ спеціальныхъ курсовъ паровозовъ, электротехники (общіе краткіе курсы по этимъ предметамъ обязательны для всѣхъ); студенты, записавшіеся во вторую группу, не слушаютъ отдѣльныхъ курсовъ мукомольнаго дѣла, заводскихъ машинъ, электротехники, а записавшіеся въ третью группу не слушаютъ мукомольнаго дѣла, заводскихъ машинъ, паровозовъ. На химическомъ отдѣленіи два подъотдѣла; студенты перваго спеціализируются по металлургіи и потому не слушаютъ отдѣлы химической технологіи, касающейся сельскохозяйственной промышленности и наоборотъ. Этой факультативностью учебнаго плана томскій институтъ отличается отъ всехъ другихъ институтовъ.
Если въ томскомъ институтѣ оказывается болѣе затруднительнымъ, чѣмъ въ институтахъ европейской Россіи, поставить на надлежащую высоту лекціонную часть по мѣстнымъ культурнымъ условіямъ, за то здѣсь придано большое значеніе практическимъ занятіямъ въ лабораторіяхъ, въ кабинетахъ и въ аудиторіяхъ (по математикѣ, механикѣ и пр.). По мнѣнію совѣта такія занятія облегчаютъ усвоеніе предмета и дисциплинируютъ студента, пріучая его къ систематическому веденію своихъ занятій. Вслѣдствіе такого взгляда совѣта на практическія занятія въ томскомъ технологическомъ институтѣ совершенно выброшены еженедѣльныя репетиціи, существующія въ Петербургскомъ, Харьковскомъ институтахъ и въ Императ. московскомъ техническомъ училищѣ. Сообразно съ этимъ взглядомъ совѣта предположено широкое устройство и оборудованіе значительнаго числа лабораторій по многочисленнымъ спеціальностямъ.
Общая стоимость полнаго устройства института, какъ выяснилось въ настоящее время, будетъ свыше 3.000.000 рублей, а именно стоимость построекъ будетъ равна 2.000.000 рубл. и стоимость оборудованія 536.000 рублей. Эта стоимость не превышаетъ стоимость другихъ высшихъ техническихъ школь однороднаго типа; такъ по недавно вышедшему отчету стоимость устройства кіевскаго политехникума равна 2.970.000 рубл., т. е. та же почти стоимость, что и томскаго института, не смотря на то, что Томскъ сильно переплачиваетъ по тарифамъ на всемъ, что доставляется съ Урала и изъ-за Урала. Стоимость устройства варшавскаго политехникума выше 3 милл., а стоимость петербургскаго политехникума превзойдетъ эту цифру раза въ три.
Въ настоящее время въ институтѣ состоитъ 824 студента, при чемъ только около одной трети уроженцевъ азіатской Россіи или окончившихъ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній этого края (Сибирь, Туркестанъ и Закавказье), а остальные изъ европейской Россіи. Наиболѣе многолюдными являются механическое и горное отдѣленія, а далѣе слѣдуетъ строительное и химическое.
Что касается профессорскаго персонала, то не смотря на повышенные оклады и на повышенные размѣры пенсій, никто изъ занимающихъ кафедры въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ европейской Россіи не перешелъ въ томскій институтъ.
Тѣмъ не менѣе кафедры по теоретическимъ предметамъ по большей части заняты лицами, имѣющими ученыя степени, требуемыя § 8 положенія института; на спеціальныя кафедры избраны по преимуществу молодые инженеры, спеціально подготовлявшіеся для томскаго технологическаго института.
Нельзя не отмѣтить крайнюю необезпеченность студентовъ томскаго института. Въ настоящее время въ институтѣ 824 студента, а предполагается въ будущемъ до 1200 и на это число имѣется всего 50 казенныхъ стипендій и 50 безплатныхъ мѣстъ обученія. Кромѣ казенныхъ стипендій есть еще 4 стипендіи города Томска, одна города Красноярска, одна города Омска и одна города Петропавловска, то есть Всего 57 стипендій на 1200 студентовъ или менѣе пяти стипендій на сто студентовъ. Это крайне мало.
Эти печальныя цифры показываютъ, какъ, къ сожалѣнію, безучастно и холодно пока относится сибирское населеніе къ высшему учебному заведенію своей области. Но такое отношеніе не должно длиться долго и мы надѣемся, что молодой институтъ завоюетъ симпатіи въ обществѣ. Не хорошо, если школа представляется постороннимъ тѣломъ въ организмѣ области, не связаннымъ съ нимъ духовными связями, если школа относится безъ уваженія къ духовнымъ нуждамъ мѣстнаго общества и игнорируетъ его симпатіи; еще прискорбнѣе, конечно, бываетъ если школа относится недружелюбно къ мѣстному обществу, а что это бывало иногда, фактъ извѣстный; можетъ быть, бывало это и въ Томскѣ. Къ счастью для молодого института его жизнь начинается при такой благопріятной духовной обстановкѣ, что мы можемъ твердо надѣяться на развитіе теплыхъ отношеній между школой и обществомъ, что съ одной стороны въ обществѣ возникнетъ глубокая симпатія къ институту, которая выразится въ посильныхъ пожертвованіяхъ на него, съ другой—институтъ получитъ значеніе областного учрежденія.
---------------
*)8000 рублей по положенію.
****
Изъ cказокъ сибирской дѣйствительности.
ВОЙЦЕХЪ ЛЕСЮКЪ
(Окончаніе,— см. № 254).
На слѣдующій день Савицкій съ утра отправился на охоту. О Лесюкѣ онъ не безпокоился. Подумавъ, онъ рѣшилъ, что Войцехъ отправился за косой и серпами либо въ городъ, либо къ пригороднымъ скопцамъ. День выдался хорошій. Легкій вѣтерокъ медленно шевелилъ вѣтками тяжеловѣсной лиственницы; гдѣ-то стучалъ дятелъ, стрекотали и звенѣли насѣкомыя... Савицкій, бодрый, жизнерадостный шелъ слѣдомъ за собакой, медленно трусившей впереди... Вдругъ собака остановилась, насторожила уши и залаяла. Онъ прикрикнулъ на нее и привычнымъ движеніемъ снялъ съ плеча ружье. Собака не унималась и продолжала лаять. До слуха Савицкаго долетѣли звуки пѣсни. Закинувъ опять ружье за плечо, онъ остановился...
— Тубо!—вторично прикрикнулъ онъ на собаку и двинулся впередъ на встрѣчу голосамъ,
а минуту спустя,, уже наткнулся на пьяныхъ поселенцевъ. Собака, увидѣвъ русскихъ, весело завиляла хвостомъ. Среди пьяныхъ Савицкій увидѣлъ Лесюка и невольно остановился...
А Войцехъ, какъ воръ, пойманный съ поличнымъ, замѣтно смутился, опустилъ глаза долу и, опередивъ компанію, подошелъ къ Савицкому.
— Будьте спокойны!.. Какъ только пора настанетъ, я прійду работать.
— Ваше дѣло!—холодно отвѣтилъ Савицкій и пошелъ дальше.
Прекратившіе пѣніе, стоявшіе немного поодаль, поселенцы начали подтрунивать надъ Лесюкомъ.
— Попался, земледѣлецъ!
— Ладно въ кабалу попалъ!...
— Плеваць я хотѣлъ на него... Тьфу!.. Я не подданный, а онъ не панъ!... Давайте пѣть.
Савицкому было непріятно. Онъ не разсчитывалъ, конечно, что Лесюкъ сразу перемѣнился и изъ обычнаго поселенца сдѣлался заправскимъ пахаремъ, для котораго съ посѣяннымъ клочкомъ земли связано всё, но ему казалось, что до уборки хлѣба у Войцеха въ этомъ клочкѣ весь смыслъ жизни, что „своя пашня убережетъ его отъ минутныхъ соблазновъ, а тамъ... послѣ жнитва опять что нибудь скраситъ жизнь поселенца и онъ мало по малу отобьется отъ прежней компаніи, отъ прежнихъ привычекъ...
Мысль передѣлать человѣка и исправить такъ соблазнительна...
Видъ пьянаго Войцеха сразу разрѣшилъ всѣ иллюзіи Савицкаго. Онъ по прежнему продолжалъ бродить но лѣсу, но прежняго бодраго настроенія уже не было. На душѣ было скверно. Увидѣвъ лежавшее поперекъ лѣсной тропинки поваленное вѣтромъ и уже покрытое мягкимъ бархатистымъ мохомъ дерево, онъ присѣлъ, спугнувъ при этомъ стаю муравьевъ, копошившихся надъ прошлогодней засохшей ягодой брусники... Отдохнувъ немного, онъ повернулъ къ дому и совершенно безсознательно поплелся на пашню. Надъ ней, издали видное, торчало принесенное теченіемъ дерево и сразу приковывало къ себѣ вниманіе. Вспомнивъ, какъ Лесюкъ волновался во время разлива Лены, Савицкій съ горькимъ чувствомъ обиды и разочарованія сѣлъ, было, на покрытый зеленью островокъ, но тотчасъ-же вскочилъ, услышавъ подозрительный шорохъ. Онъ нагнулся и увидѣлъ несмѣтное количество прыгающей кобылки...
Въ одну секунду онъ очутился возлѣ изгороди, перелѣзъ черезъ неё и нагнулся надъ хлѣбомъ: кобылка шуршала и тамъ. Взволнованный, онъ обошелъ всю пашню и при каждомъ его шагѣ кобылка фонтаномъ вылетала изъ подъ его ногъ и разсыпалась въ разныя стороны. Весь хлѣбъ былъ со всѣхъ сторонъ окруженъ этимъ мелкимъ, но страшнымъ врагомъ. Савицкій зналъ, что борьба невозможна и, тѣмъ не менѣе, ому казалось, что Лесюкъ могъ-бы что нибудь придумать... Но Лесюкъ быль пьянъ. Въ душѣ Савицкаго закипало противъ него раздраженіе... Онъ сердито перелѣзъ черезъ изгородь и зашагалъ домой.
— Мнѣ какое дѣло! Пусть дѣлаетъ, какъ знаетъ!...
VI.
Къ утру Лесюкъ протрезвился. На полу, разметавшись, лежали, громко всхрапывая, его товарищи; на столѣ манила глазъ недопитая наканунѣ бутылка...
Леси жъ всталъ, налилъ себѣ чашку водки и выпилъ. Ему кикъ будто легче стало, въ головѣ прояснилось, онъ вспомнилъ вчерашнюю встрѣчу съ Савицкимъ и ему стало неловко...
Онъ вышелъ изъ юрты и тихо побрелъ...
Мысль о пашнѣ опять привела его въ хорошее настроеніе и вызвала въ немъ новый , приливъ энергіи и добрыхъ намѣреній.
— Теперь баста! Ни одной рюмки больше!..
И по мѣрѣ того, какъ онъ приближался къ пашнѣ, власть надъ нимъ водки уступала мѣсто власти земли.
Онъ думалъ о будущемъ урожаѣ, о золотистыхъ колосьяхъ, о полномъ, крупномъ, какъ жемчугъ, зернѣ.
Впереди, въ синей дымкѣ дали, уже обозначились уродливые щупальца памятнаго дерева, какъ будто стоявшаго на стражѣ пашни. Наглядѣвшись на него, Лесюкъ оступился въ овражью норку и чуть не упалъ...
Оглянувшись, онъ остолбенѣлъ отъ ужаса: въ травѣ копошились тысячи кобылокъ.
— Боже мой! Боже мой! шепталъ онъ поблѣднѣвшими губами, не рѣшаясь пройти сотни шаговъ, отдѣлившихъ его отъ пашни...
А кобылки у его ногъ шуршали, прыгали и плясали, радуясь солнцу и зелени.
Сдѣлавъ надъ собой нечеловѣческое усиліе, Лесюкъ подбѣжалъ къ изгороди, перегнулся черезъ нее, и такъ и застылъ,
На всемъ протяженіи пашни усиленно работали кобылка. Сѣвъ на то-же мѣсто, гдѣ наканунѣ сидѣлъ Савицкій, Лесюкъ тупо глядѣлъ на чернѣвшія уже среди зелени всходовъ лысины. Во рту у него пересохло, въ головѣ было пусто, мозгъ, какъ будто, совершенно пересталъ работать...
Время шло. Солнце все жарче жгло его обнаженную голову. Онъ ничего не чувствовалъ. Невдалекѣ табунъ стройныхъ кобылъ съ жеребятами, подъ зоркимъ наблюденіемъ жеребца, пощипывалъ траву, медленно, почти незамѣтно подвигаясь въ сторону лѣса... Лесюкъ не видѣлъ и его. Изъ оцѣпенѣнія его вывела миленькая стройная, зеленая кобылка, напоминающая крохотную жабку, впрыгнувшая къ нему на руку... Онъ вздрогнулъ, какъ хищникъ, вцѣпился пальцами въ это крохотное созданіе, проткнулъ его иглой сосны и пустилъ...— Bотъ тебѣ за мой хлѣбъ!—зло проводилъ онъ насѣкомое и, словно это доставляло ему облегченіе, съ невѣроятной ловкостью набросился на копошившихся кобылокъ, ловилъ ихъ и протыкалъ сосновой хвоей. Вскорѣ это его утомило.
— Съ ума сошелъ, чи что?—остановилъ онъ самого себя, поднимаясь съ земли.
Онъ оглянулся. Глаза его наткнулись на щипавшій траву табунъ.
— Добрые кони... одобрилъ онъ табунъ, въ первый моментъ почти не думая о томъ, что говоритъ, но въ ту-же секунду звукъ произнесенныхъ имъ словъ, какъ-бы въ дѣйствительности приковалъ его вниманіе къ табуну... Застывшая на время мысль поселенца начала работать съ страшной быстротой... На лицѣ Лесюка появилась лукавая улыбка. Онъ поднялъ голову и взглянулъ на солнце.
— Съ часъ еще здѣсь пробудутъ... Успѣемъ!..
Онъ сразу преобразился и бѣгомъ бросился къ себѣ въ юрту...
VII.
Четверть часа спустя, Лесюкъ съ компаніей поселенцевъ мчался обратно въ сторону пашни На разстояніи ста шаговъ отъ табуна бѣжавшіе остановились и, озираясь по сторонамъ, начали окружать табунъ... Лесюкъ подбѣжалъ къ изгороди и, навалившись на нее, опрокинулъ одно звено. Входъ на пашню былъ свободенъ. Поселенцы медленно суживали кругъ, оцѣпляя табунъ съ трехъ сторонъ... Жеребецъ, поднявъ голову и увидѣвъ идущихъ, встряхнулъ гривой, заржалъ и двинулся впередъ, подозрительно оглядываясь: слѣдомъ за нимъ, легко ступая, слѣдовали его подруги, а за ними, уморительно подпрыгивая и путаясь среди взрослыхъ, бѣжали и жеребята. Поселенцы, шедшіе сзади, ускорили шаги, шедшіе съ боку загикали... Жеребецъ понесся во весь махъ. Гикая и широко разставляя руки, поселенцы направляли его въ сторону пашни. Былъ моментъ, когда табунъ чуть не вырвался на волю, но во время брошенная Лесюкомъ щепка помогла дѣлу, и животныя, тѣснясь въ продѣланныхъ Лесюкомъ воротахъ и напирая другъ ни друга, протискивались на пашню...
— Язви тебя, панъ! Ловко ты это надумалъ...
— Теперь, паря, дуй не стой къ тойону! *)
Вспотѣвшіе, красные, запыхавшіеся поселенцы громко хохотали.
— Онъ тя и за кобылку и за все наградить...
Лесюкъ ушелъ. Поселенцы легли возлѣ продѣланнаго имъ отверстія.
— Кушайте, миленькія—острили они. — Хозяину не дешево нашъ кормъ достанется...
— А не пущай лошадей вольно...
Явившійся съ Лесюкомъ якутъ окинулъ компанію подозрительнымъ взглядомъ. Онъ, не спѣша, слѣзъ съ лошади и осмотрѣлъ поваленную изгородь.
— Гляди, гляди, черноносый! — бурчалъ себѣ въ усъ одинъ изъ поселенцевъ.
— Много ты понимать...
Но „черноносый“ понялъ, что тутъ что- то неладно. Онъ не понималъ лишь одного, какая корысть поселенцамъ загонять табунъ на собственную пашню и съ недоумѣніемъ переводилъ маленькіе прищуренные глаза съ одного поселенца на другого. Завязался разговоръ на русско-якутскомъ жаргонѣ. Поселенцы встали. Лесюкъ запросилъ за потраву 25 рублей; якутъ предлагалъ безменъ масла. За споромъ никто изъ нихъ не замѣтилъ подходившаго къ нимъ Савицкаго, который шелъ смотрѣть на опустошеніе, произведенное за ночь кобылкой. Увидѣвъ на пашнѣ табунъ лошадей и людей горячо спорившихъ и, уловивъ изъ отдѣльныхъ словъ, въ чемъ дѣло, онъ вплотную подошелъ къ нимъ.
— Здравствуйте!
Якутъ обрадовался ему, какъ родному.— Въ чемъ у васъ тутъ дѣло?
— Табунъ захватили въ хлѣбѣ,—не глядя на него, отвѣтилъ Лесюкъ.
— Весь хлѣбъ истоптали, a онъ безменъ масла сулитъ...
— И этого не стоитъ! Весь хлѣбъ изъѣденъ кобылкой... Я самъ вчера видѣлъ.
— Вамъ не стоитъ, а мнѣ стоитъ...
— Пашня столь-же моя, сколь и ваша...— холодно перебилъ его Савицкій... Я ее вчера осматривалъ и убѣдился, что весь хлѣбъ пропалъ... Якуту не за что вамъ платить...
Тойонъ съ широко открытыми глазами прислушивался къ разговору. Съ первыхъ словъ Станислава онъ понялъ, въ чемъ дѣло, и теперь, схвативъ Савицкаго на руку, подвелъ его къ изгороди, нагнулся надъ поваленными жердями и указывалъ на то, что на нихъ нѣтъ шерсти.
— Табунъ еще окончательно не вылинялъ... Если бы жеребецъ повалилъ изгородь, на жердяхъ была бы шерсть. Сами повалили!
— Какъ вамъ не стыдно!—съ упрекомъ въ голосѣ обратился Савицкій къ Лесюку.
— Возьми коней,— сказалъ онъ якуту.
Тойонъ не заставилъ себѣ этого повторять дважды. Онъ вскочилъ на коня и въѣхалъ на пашню.
Савицкій развалилъ еще въ двухъ мѣстахъ изгородь и забранный въ плѣнъ табунъ вырвался ни волю..
Поселенцы выжидательно глядѣли на Лесюка, но онъ, опустивъ глаза въ землю, не сдѣлалъ ни одного жеста сопротивленія.
Савицкій медленно, ни съ кѣмъ не прощаясь, побрелъ обратно въ свою юрту.
Кратковременная дружба земляковъ кончилась.
К. О. Н.
******
Къ рисункамъ.
Къ 25-лѣтію высшихъ женскихъ курсовъ въ Петербургѣ
Высшіе женскіе курсы въ Петербургѣ.
Давая въ настоящемъ номерѣ нѣсколько рисунковъ по поводу 25-ти лѣтія высшихъ женскихъ курсовъ въ Петербургѣ, считаемъ не лишнимъ познакомить читателей съ краткой исторіей послѣднихъ. Въ одномъ изъ предыдущихъ номеровъ „Сиб. Ж." мы уже говорили, что мысль о необходимости высшаго образованія для русскихъ женщинъ родилась въ свѣтлые 60-тые годы, но прочное реальное осуществленіе эта мысль получила лишь въ 1878 г., когда были открыты курсы, справляющіе нынѣ свой 25-тялѣтній юбилей. Своимъ открытіемъ курсы обязаны кружку интеллигентныхъ женщинъ, въ который входили: Е И. Конради, H. В Стасова, В Тарновская, Е. И. Воронина, О. А Мордвинова, А П. Философова и М. В Трубникова. Кромѣ этихъ лицъ курсы и своимъ возникновеніемъ и своимъ процвѣтаніемъ много обязаны энергіи А. Н. Бекетова, О. О. Миллера, А Я Герда. А. Н Страннолюбскаго и K. Н. Бестужева-Рюмина. Послѣдній былъ первымъ главою педагогическаго совѣта курсовъ и вложилъ въ дѣло устройства ихъ столько труда, что наименованіе курсовъ „бестужевскими", наименованіе, сохранившееся до сихъ поръ, является какъ нельзя болѣе справедливымъ. Много труда и энергіи вложила въ дѣло устройства курсовъ и H. В. Стасова, бывшая первой „распорядительницей курсовъ".
Открылись курсы при наличности 814 слушательницъ, число—ярко показывающее, насколько въ то время назрѣла на Руси необходимость высшаго образованія для женщины. Въ началѣ курсы помѣщались въ наемныхъ зданіяхъ, но съ теченіемъ времени, когда открытое почти одновременно съ курсами „общество для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ", имѣвшее въ годъ открытія 89 членовъ, a въ 1890 г. уже 1026 членовъ, окрѣпло, явилась возможность пріобрѣсти собственное зданіе. Изъ помѣщаемаго здѣсь снимка читатели могутъ видѣть,—въ какомъ роскошномъ собственномъ зданіи помѣщаются въ настоящее время курсы.
Общее управленіе курсами было возложено на коллегіальное установленіе—педагогическій совѣтъ; ближайшее же наблюденіе за слушательницами и всѣ хлопоты по внутренней жизни курсовъ были поручены „распорядительницѣ курсовъ". Курсы открылись при 3-хъ отдѣленіяхъ: словесно-историческомъ, физико-математическомъ и спеціально-математическомъ. Курсъ преподаванія былъ въ началѣ трехлѣтній, а съ 1881 г. былъ прибавленъ 4-й годъ. Въ 1886 г. курсы пережили кризисъ: въ этомъ году м—ство народн, просвѣщенія предписало прекратить пріемъ слушательницъ на курсы на томъ основаніи, что рѣшено было подвергнуть пересмотру вопросъ о высшемъ женскомъ образованіи. Въ 1889 г. пріемъ былъ возобновленъ, но курсы получили новую организацію. Завѣдываніе курсами перешло изъ рукъ общества, ихъ создавшаго («педагогическій совѣтъ" старыхъ курсовъ составляли именно тѣ лица, по иниціативѣ которыхъ, возникли курсы), въ руки особаго директора. Вмѣсто прежней "распорядительницы курсовъ" учреждена была должность инспектрисы. Измѣнены было, и самыя программы преподаванія.
Въ такомъ измѣнённомъ видѣ курсы существуютъ понынѣ и являются почти единственнымъ на всю Россію высшимъ женскимъ учебнымъ заведеніемъ общеобразовательнаго характера. За 25 лѣтъ своего существованія курсы выпустили не одну сотню молодыхъ русскихъ женщинъ съ высшимъ образованіемъ и, нужно надѣяться, выпустятъ еще тысячи и тысячи. И чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Чѣмъ свѣтлѣе будетъ у насъ на Руси, тѣмъ лучше будетъ и самая наша жизнь. Пусть-же процвѣтаютъ курсы, являющіеся однимъ изъ источниковъ итого свѣта.
Новости наукъ и изобрѣтеній.
— Недавно сдѣлано изобрѣтеніе въ телефонной техникѣ, которое, если оправдаются возлагаемыя на него ожиданія, произведетъ цѣлый переворотъ въ телефонія. Дѣло идетъ объ автоматическомъ соединеніи аппаратовъ.
Въ настоящее время вызовъ нумера является наиболѣе непріятной частью разговора по телефону. Часто вызываютъ не тотъ нумеръ, часто не даютъ договорить прерываютъ посреди разговора. Все это устранится при новой системѣ. Уже давно пытались устроить автоматическое сообщеніе, но все безуспѣшно, дока за дѣло не ваялся американецъ Альмонъ Страуджеръ; его система усовершенствована братьями Эриксонъ и Кейтомъ, такъ что теперь она теоретически должна быть пригодна для телефонной сѣти въ100,000 абонентовъ. Практически система испытывается въ настоящее время въ Берлинѣ на 460 аппаратахъ. Технически новый способъ соединенія очень простъ Новые аппараты будутъ снабжены, кромѣ обычныхъ составныхъ частей телефона (микрофона, трубки, звонка), ещё круглымъ металлическимъ кружкомъ, по краю котораго расположено десять отверстій съ цифрами 1, 2... 9, 0. Если, напримѣръ, нужно вызвать № 4782, то дѣлаютъ такъ: вкладываютъ палецъ сначала въ отверстіе четыре и поворачиваютъ кружокъ до тѣхъ поръ, пока онъ не остановится Онъ сейчасъ же, возвращается въ первоначальное положеніе; затѣмъ тѣмъ же порядкомъ поступаютъ съ цифрами 7, 3, 2. Послѣ этого стоитъ подавить кнопку, и желаемый нумеръ вызванъ. Если нумеръ занятъ, то на какой-нибудь цифрѣ кружокъ не повернется. Новый аппаратъ имѣетъ то удобство, что разговоръ, не можетъ быть ни прерванъ, ни перехваченъ.
Двухслойный pdf (текст под картинками)
https://yadi.sk/i/Wb7FW99OrG29S
pdf без маски (текст и картинки)
https://yadi.sk/i/0e3mh0cZrG2C5
Двухслойный pdf (текст поверх картинок)
https://yadi.sk/i/VRwMw-lDrG2As
Показать спойлер
актуальная проза))): "Въ каждомъ почти разсказѣ Наумовѣ фигурируетъ міроѣдъ—эта, столь знакомая жадная сибирской деревнѣ, фигура обыкновенно ражая, безсердечная, чванливая, сознающая свою силу и вліяніе. Поглумиться надъ бѣднотой, поиздѣваться, прижать ее, вырвать послѣдній кусокъ хлѣба—дѣло обычное, знакомое для кулака, доставляющее ему громадное наслажденіе. Наумовъ мастерски нарисовалъ много такихъ сценъ. Міроѣдъ иногда доходитъ до такого нахальства, что свои эксплуататорскіе поступки считаетъ благодѣяніемъ. Въ вопросахъ моральныхъ онъ доходитъ иногда прямо до кощунства;—„Нищъ... и вѣры нѣтъ, у кого дерюга въ дырахъ, у того и совѣсть сквозитъ!., “—говорить міроѣдъ Мятлевъ въ повѣсти Наумова „Погорѣльцы"
Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №265
за Воскресенье, 6-го декабря 1903 года.
в номере:
Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №265
за Воскресенье, 6-го декабря 1903 года.
в номере:
Показать спойлер
А. Головачевъ "Николай Ивановичъ Наумовъ какъ писатель"
Среди немногочисленныхъ сибиряковъ беллетристовъ Н. И. Наумовъ занимаетъ безпорно первое мѣсто. Въ 70-хъ и 80-хъ годахъ его произведенія, появлявшіяся на страницахъ лучшихъ русскихъ журналовъ и отдѣльными книжками: („Сила солому ломитъ", „Въ тихомъ омутѣ",
„Въ забытомъ краю", „Паутина") привлекали къ себѣ вниманіе и симпатію читателей наравнѣ съ произведеніями Глѣба Успенскаго и Златовратскаго какъ мастерскимъ выполненіемъ поставленныхъ темъ, такъ и интересомъ ихъ съ точки зрѣнія читателя того времени. Статья Наумова являлась украшеніемъ журнальной книжки. То было время, когда культурная часть русскаго общества болѣе, чѣмъ нынѣ, интересовалась бытомъ русской деревни, деревенской народной психологіей, устоями деревенской жизни.
Во главѣ писателей, удовлетворявшихъ этотъ интересъ, открывавшихъ, такъ сказать, „тайны русской деревни", стояли безпорно Гл. Успенскій и Златовратскій, но они иногда впадали въ идеализацію наблюдаемыхъ явленій, что, конечно, объясняется ихъ горячей любовью къ русскому простому народу. У Наумова нѣтъ этой идеализаціи и не потому, чтобы онъ не любилъ народъ en masse, не болѣлъ его горестями и печалями, а потому, что онъ по складу своего ума не способенъ къ идеализаціи. По темамъ своихъ произведеній онъ писатель народнаго быта, но онъ не народникъ, въ общепринятомъ смыслѣ этого термина, хотя его нѣкоторые и причисляютъ къ этой категоріи.
По условіямъ своей служебной дѣятельности онъ имѣлъ возможность хорошо ознакомиться съ бытомъ сибирскихъ крестьянъ и изображенію его посвятилъ большую часть своихъ произведеній. Его можно назвать бытописателемъ сибирской деревни.
Россійская и сибирская деревни много отличаются другъ отъ друга, что вполнѣ и понятно, такъ какъ жизнь ихъ сложилась подъ вліяніемъ различныхъ историческихъ факторовъ. Сибирь не знала ни крѣпостного права, ни барщины, ни помѣщичьей власти, ни земельнаго угнетенія, но съ другой стороны въ Сибири не было и культурнаго элемента, который жилъ бы вблизи деревни и въ ней самой, который интересовался бы деревенской жизнью и выдѣлилъ бы изъ среды своей хотя бы небольшую группу лицъ, пожелавшихъ принести пользу деревенской средѣ. Въ Сибири не было и до сихъ поръ нѣтъ земства, которое преслѣдовало бы культурныя задачи, стремясь внести свѣтъ въ темное деревенское царство. Отдаленность деревенскихъ сибирскихъ дебрей отъ административныхъ центровъ, отсутствіе въ сибирской деревнѣ лицъ, которые сумѣли бы указать путь, на которомъ можно отыскать защиту попранныхъ личныхъ и имущественныхъ правъ, отсутствіе такихъ лицъ до послѣдняго времени даже въ сибирскихъ городахъ, полнѣйшее отсутствіе гласности въ самомъ недалекомъ сибирскомъ прошломъ, дореформенное невѣжественное, но алчное и, сознававшее свою силу и безотвѣтственность, чиновничество, среди котораго порядочные люди не могли ужиться, вотъ та атмосфера недалекаго сибирскаго прошлаго, въ которой жила сибирская деревня (60-хъ и 70-хъ годовъ—временъ Наумова и которую запечатлѣлъ талантливый беллетристъ въ своихъ повѣстяхъ и разсказахъ.
Громадное большинство людей правила своего поведенія почерпаютъ исключительно изъ наблюденій надъ окружающей жизнью. Человѣку естественно мечтать и стремиться къ своему благополучію и опять таки для громаднаго большинства въ некультурномъ обществѣ, гдѣ общественное мнѣніе не отлилось въ благородную сдерживающую форму—пути достиженія благополучія безразличны—лишь бы они вели прямо къ цѣли. Жизнь сибирской деревни, какъ она изображается у Наумова, воочію показала, что стоекъ и силенъ въ столкновеніяхъ съ жизненными перипетіями только тотъ, у кого въ рукахъ или власть, или деньги, матеріальный достатокъ. Та же деревенская жизнь показала еще, что власть и матеріальный достатокъ являются обыкновенно закадычными друзьями, помогающими другъ другу: власть не только умножаетъ достатокъ, но имѣетъ силу создать его и обратно: матеріальный достатокъ даетъ возможность заполучить въ свои руки власть. Усвоеніе этой философіи не требуетъ большаго умственнаго напряженія и доступно и для темнаго сибирскаго крестьянина. Деревня вполнѣ усвоила эту мудрость.
„Какъ, братецъ, въ ину пору не позавидуешь! уныло отвѣчалъ онъ (ямщикъ—крестьянинъ) послѣ непродолжительнаго раздумья.—Ты робишь, робишь всю жизнь, не покладая рукъ, а все у тебя прорѣхи однѣ, нигдѣ цѣльнаго мѣста не найдешь, а тутъ вонъ подъ бокомъ у тебя твой же братъ, мужикъ, да вѣдь какъ къ этому то дѣлу приладился. И живетъ то всласть, ни горя-то у него, ни заботы, и всего то у него вдоволь, и знаешь ты, што онъ такой же мужикъ, какъ ты, а робѣешь предъ нимъ, издали то завидишь его, такъ сами руки къ шапкѣ тянутся" (Паутина. Соч. Наумова, т. I, стр. 55—6).
„Въ рѣдкость тутъ, сударь, съ совѣстью человѣка найдете, въ рѣдкость"—говоритъ Флегонтъ Дмитричъ въ разсказѣ „Паутина". „Да и какъ среди этого гомона совѣсть соблюдешь. Иной бы, можетъ, и по совѣсти жилъ, да видитъ, что кругомъ и около дѣется, люди не сѣютъ, не жнутъ, а въ избыткѣ живутъ, и онъ, глядя на другихъ, распояшетъ руки, а совѣсть то за поясъ заткнетъ, да и примется, благословясь, за это же рукомесло, благо оно прибыльно!" (Ibid., т. I, стр. 72—73).
Въ разсказѣ „Ежъ", герой его, рабочій, говоритъ пріисковому управляющему: „По нашей, то мужичьей примѣтѣ мы судимъ. На нашу смѣтку, ваше почтеніе, коли у человѣка денегъ нѣтъ, такъ онъ и ростомъ то ровно ниже выглядитъ, и съ лица будто темный! А человѣкъ съ деньгой, не во гнѣвъ вашей милости, и бѣлѣй и румянѣе... и усмѣшка на алыхъ устахъ, и живетъ, какъ у вашей же милости!"
Каждому желательно „быть повыше ростомъ", но не каждый останавливается передъ средствами, и вотъ на фонѣ сибирской жизни запышнымъ
цвѣткомъ расцвѣтаетъ кулачество и міроѣдство. При полномъ отсутствіи доступнаго дешевого кредита въ сибирской деревнѣ, при отдаленности рынковъ для сбыта сельскохозяйственныхъ произведеній, сибирская крестьянская среда представляетъ, широкую арену эксплуататорской дѣятельности. Изъ темной крестьянской массы выдираются эти эксплуататоры сплошь и рядомъ благодари не уму и способностямъ, а случаю или преступленію. Стоитъ только немного подняться и опериться, а дальше путь къ матерьяльному
достатку уже открытъ. Въ разсказѣ: „Куда ни кинь, все клинъ" Абрамъ Николаевичъ говоритъ: „Тебѣ, чтобы копѣйку то въ карманъ залучить, сколько надоть потрудиться и ночей не доспать, и не допить, и не доѣсть, и горбъ то нагнуть до боли, да и то едва залучишь ее... а богатый то и на печи лежитъ, только и знаетъ одну работу—ѣсть всласть да спать безъ отдыху, а къ нему всё копѣйка плыветъ"... (Соч., т. I, стр. 246-7).
Въ каждомъ почти разсказѣ Наумовѣ фигурируетъ міроѣдъ—эта, столь знакомая жадная сибирской деревнѣ, фигура обыкновенно ражая, безсердечная, чванливая, сознающая свою силу и вліяніе. Поглумиться надъ бѣднотой, поиздѣваться, прижать ее, вырвать послѣдній кусокъ хлѣба—дѣло обычное, знакомое для кулака, доставляющее ему громадное наслажденіе. Наумовъ мастерски нарисовалъ много такихъ сценъ. Міроѣдъ иногда доходитъ до такого нахальства, что свои эксплуататорскіе поступки считаетъ благодѣяніемъ. Въ вопросахъ моральныхъ онъ доходитъ иногда прямо до кощунства;—„Нищъ... и вѣры нѣтъ, у кого дерюга въ дырахъ, у того и совѣсть сквозитъ!., “—говорить міроѣдъ Мятлевъ въ повѣсти Наумова „Погорѣльцы" (ibid., т. II, стр. 90). А другой кулакъ Кузьма Терентьинъ, опаивающій пріисковыхъ рабочихъ, выражается такъ о честныхъ людяхъ: „онъ потоль и честенъ, поколь ему украсть негдѣ"; и далѣе: „А теперича оно такъ выходитъ, што я можетъ, для того ворую и граблю, штобъ только надъ честнымъ человѣкомъ издѣваться да за всякое время его же изъ бѣды выручать,—для того и сдобный пирогъ ѣмъ, штобъ онъ съ голоду-то зубы на него скалилъ да завидовалъ мнѣ! Хе.. хе.. е.. “ (ibid., стр. 66—67).
Кулакъ міроѣдъ стремится захватить власть въ свои цѣпкія загребистыя руки или самъ непосредственно или черезъ своихъ родныхъ и зависимыхъ лицъ, для этого онъ не останавливается ни предъ подкупомъ, ни предъ интригами, ни предъ самымъ беззастѣнчивымъ обманомъ. Эта власть такъ заманчива, такъ поставлена въ сибирской деревнѣ, что и для человѣка бѣднаго, незначительнаго, открывается соблазнительный путь личнаго стяжанія, встать на который очень легко и возможно. „Не во гнѣвъ его милости, Николаю то Семенычу сказать",—говоритъ у Наумова одинъ старикъ: „съ первоначалу то, помнится, и-и-и съ какой оглядкой онъ къ казеннымъ-то бумажкамъ (деньгамъ) касался, а опосля такъ пообвыкъ, что индѣ карманы перемѣшалъ; гдѣ- надо въ казенный опустить, а онъ все въ свой да въ свой!“ (Мірской учетъ, соч., т. 11., стр. 20).
Злоупотребленіе властью въ цѣляхъ обогащенія при дореформенныхъ сибирскихъ порядкахъ, при деревенской тьмѣ, при господствѣ кулаковъ-міроѣдовъ сдѣлалось настолько обычнымъ, всѣмъ знакомымъ явленіемъ, что для сибирскаго мужика временъ Наумова вполнѣ убѣдительны и понятны слова главнаго героя разсказа „Мирской учетъ“ Харламова. Онъ говоритъ обличающимъ его злоупотребленіе крестьянамъ: „Воровъ-то у васъ и напредки будетъ много, поколь темнота ваша будетъ стоять, что дремучъ боръ“.
Тяжелое впечатлѣніе производитъ на читателя яркія картины сибирской деревенской нищеты, экономической безысходности наряду съ зажиточностью, сытой чванливостью, сознаніемъ своего вліянія сибирскихъ міроѣдовъ. Кабала свила прочное обширное гнѣздо, она захватила въ свои когти и крестьянъ-землепашцевъ, и инородцевъ, и пріисковыхъ рабочихъ, и не было во времена Наумова какой либо сильной благодѣтельной руки, которая оказала-бы помощь закабаленному населенію.
На общемъ мрачномъ фонѣ, нарисованной сибирскимъ бытописателемъ, картины однако выступаютъ и свѣтлыя черты—это протестующія и обличающія неправду и злоупотребленія единичныя личности, выдѣляемыя тѣмъ же крестьянскимъ міромъ. Наумовъ вѣритъ въ силу правды и справедливости, онъ полагаетъ, что эта живая струя, какъ бы не давила, не уничтожала ее темная сила, все таки не можетъ быть окончательно заглушена и проявляется, напоминаетъ о себѣ, заставляетъ съ собой считаться, причиняетъ хлопоты и безпокойство своимъ врагамъ. Эта вѣра писателя не является фантазіей писателя, нѣтъ, она основана на фактахъ, которые онъ наблюдалъ въ жизни. Да иначе и быть не можетъ. Въ обществѣ, которое не стоитъ на пути разложенія, на пути къ смерти, не можетъ быть окончательно утрачена идея справедливости. Хотя изрѣдка, хотя въ отдѣльныхъ личностяхъ, но она заявляетъ о своимъ существованіи. Въ некультурномъ обществѣ эта идея не чужда и сознанію массъ, но массы эти неорганизованы, не сплочены, не выработали сознанія необходимости коллективной борьбы для достиженія намѣченной цѣли, онѣ не могутъ и не умѣютъ поддерживать отдѣльную личность въ ея протестахъ, въ ея борьбѣ за общественный интересъ, онѣ покидаютъ ее въ силу инертности, боязливости отдѣльныхъ единицъ, въ силу недостаточно твердаго пониманія
общности интересовъ. Отдѣльные члены этихъ массъ или быстро устаютъ въ борьбѣ, или относятся крайне пассивно, или устрашаются, или же мѣняютъ общественные интересы на свои личные. Нерѣдко массы эти, наученные опытомъ прежнихъ лѣтъ, хотя и опытомъ по существу малоубѣдительнымъ, даже не выражаютъ желанія поддержать отдѣльную личность въ борьбѣ ея за общественное благо. Слѣдуетъ также замѣтить, что борьба даже извѣстной общественной группы, хотя бы борьба эта велась правильно и настойчиво, не всегда оканчивается побѣдой. Нерѣдко та сила, съ которой приходится бороться, хотя бы и сила темная, настолько могущественна, что на побѣду ея пока нечего и разсчитывать. Въ такихъ случаяхъ при пораженіи всѣ его тяжелыя послѣдствія сильнѣе всего падаютъ на отдѣльныхъ личностей, стоящихъ во главѣ, и личностей при томъ, конечно, лучшихъ. Сибирская деревня временъ Наумова также иногда дѣлала попытки борьбы, но та сила (обыкновенно міроѣдство), съ которой приходилось бороться, почти всегда выходила побѣдительницей, и единичныя личности, стоявшія во главѣ боровшагося крестьянскаго общества, жестоко платились за свою смѣлость: Въ произведеніяхъ Наумова читатель найдетъ массу иллюстрацій къ высказаннымъ ранѣе положеніямъ. Предъ читателемъ приходитъ цѣлый рядъ отдѣльныхъ личностей, протестующихъ противъ злоупотребленій и отстаивающихъ общественные интересы. Судьба ихъ всѣхъ печальна, онѣ надаютъ въ неравной борьбѣ, нерѣдко не получая даже поддержки со стороны тѣхъ, чьи интересы они хотятъ охранить и отстоять. Таковъ Дехтяревъ въ разсказѣ „Умалишенный", Корольковъ въ разсказѣ „Зажора", Бычковъ въ повѣсти „Крестьянскіе выборы", Ознобинъ въ разсказѣ „Мірской учетъ", „Ежъ" въ очеркѣ того-же названія и мн. друг.
Да, отдѣльныя личности погибли и погибаютъ, но на смѣну имъ идутъ и еще придутъ другія, для дѣятельности которыхъ, навѣрное, настанутъ лучшія времена. Въ крестьянствѣ еще много таится живыхъ силъ—вотъ выводъ, который вправѣ сдѣлать читатель Наумова. Что время это настанетъ рано-ли, поздно-ли, въ этомъ даже убѣждены нѣкоторые изъ наумовскихъ міроѣдовъ. Въ разсказѣ „Мірской учетъ" міроѣдъ Николай Семеновичъ Харламовъ, слова котораго я уже цитировалъ, говоритъ мужикамъ, обличавшимъ его въ присвоеніи общественныхъ суммъ: „воровъ то у васъ и напредки будетъ много, поколь темнота ваша будетъ стоять, что дремучъ боръ" (Мірской Учетъ. Соч., томъ 11, стр. 24).
Въ небольшой газетной статьѣ я поневолѣ долженъ ограничиться лишь указаніемъ на главные, но моему мнѣнію, такъ сказать, доминирующіе мотивы художественнаго творчества Наумова, не касаясь деталей и другихъ, быть можетъ, не менѣе интересныхъ темъ, затронутыхъ въ единичныхъ разсказахъ. Напримѣръ во 2-мъ томѣ сочиненій Наумова помѣщенъ образцовый по отдѣлкѣ и глубокій по содержанію разсказъ подъ названіемъ „Нефедовскій починокъ". Здѣсь нѣтъ ни кабалы, ни кулаковъ-міроѣдовъ, ни безысходной гнетущей нужды, толкающей на преступленіе, но за то мы встрѣчаемся съ темнотой, наивностью, нравственной неустойчивостью, за которую нельзя даже упрекнуть, выразить порицаніе.
Наумовъ намъ оставилъ хотя и небольшое по объему, но богатое по содержанію литературное наслѣдство, въ которомъ и современный человѣкъ найдетъ много интереснаго и поучительнаго. Произведенія Наумова не устарѣли, не потеряли интереса и для каждаго интеллигентнаго человѣка, въ особенности, если онъ проживаетъ въ Сибири, знакомство съ ними безусловно важно и необходимо. Хотя въ нынѣшней сибирской деревнѣ, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ частяхъ Сибири, и народились новые элементы, тѣмъ не менѣе Наумовскіе мотивы еще не отжили въ ней, не потеряли своей прежней остроты.
*****
Г. Потанинъ "Юные годы Н. И. Наумова"
Странное обстоятельство! Томская гимназія въ пятидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія со своими допотопными учителями была карикатурой на средне-учебное заведеніе; учебная часть въ ней была такъ плохо поставлена, какъ ни въ какъ другомъ учебномъ заведеніи въ Сибири.
И не смотря на то, эта гимназія того времени разомъ дала трехъ выдающихся сибирскихъ писателей: Ядринцева, Наумова и Кущевскаго. Ядринцевъ и Наумовъ были ровесники и, кажется, сидѣли въ одномъ классѣ; Кущевскій былъ въ другомъ возрастѣ, но и онъ учился одновременно съ Ядринцевымъ и Наумовымъ, хотя и не въ одномъ съ ними классѣ. Для меня подтвержденіе этого заключается въ томъ, что Наумовъ впослѣдствіи разсказывалъ, какъ гимназисты его времени, его товарищи, подъ вліяніемъ извѣстій о только что кончившейся осадѣ Севастополя, любили играть въ войну русскихъ съ французами, въ которой и онъ принималъ участіе, Кущевскій же, въ своемъ романѣ „Николай Негоревъ" тоже описываетъ подобныя игры гимназическихъ товарищей Негорева, несомнѣнно учениковъ томской гимназіи, и описываетъ, конечно, по личнымъ наблюденіямъ. Позднѣе старые курьезные учителя томской гимназіи были замѣнены новыми, лучше подготовленными, но изъ новаго поколѣнія, учившагося у нихъ, выдающихся фигуръ не вышло. Это странное несоотвѣтствіе состоянія школы съ ея результатами объясняется повышеннымъ тономъ общественной жизни того времени, когда Ядринцевъ, Наумовъ и Кущевскій, окончивъ школу, вступали въ жизнь. Внутренняя политика измѣнилась къ лучшему; появилась надежда на нѣкоторый просторъ въ сферѣ общественной дѣятельности; расширились права для частной иниціативы и человѣкъ съ даже скромными силами получилъ надежду найти сферу для своей дѣятельности. Люди почувствовали себя съ расправленными членами, общество рванулось къ дѣятельности, кто къ чему чувствовалъ себя способнымъ.
Николай Ивановичъ Наумовъ, оставивъ гимназію, поступилъ юнкеромъ въ сибирскую линейную пѣхоту. Служить ему пришлось въ Омскѣ. Еще до выѣзда въ Петербургъ, онъ послалъ въ столицу маленькій разсказъ „У перевоза который и былъ напечатанъ въ „Современникѣ". Наумовъ появился въ печати ранѣе Ядринцева, но въ Петербургъ выѣхалъ позднѣе. Ядринцевъ, пріѣхавъ въ столицу, разсказывалъ своимъ землякамъ въ Петербургѣ о своемъ оставленномъ на родинѣ другѣ и товарищѣ по гимназіи, какъ о будущемъ литературномъ работникѣ. Земляки тотчасъ-же составили проектъ вызвать молодого человѣка въ Петербургъ; тогда очень была сильна боязнь, что молодая сила можетъ въ провинціальной глуши легко затеряться, а выбравшись въ Петербургъ, хотя бы и не удалось поступить въ университетъ, если человѣкъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ только потолкается между студентами, и этого будетъ достаточно, чтобъ онъ накопилъ такую энергію, которая потомъ гарантируетъ его въ теченіи всей его жизни отъ засасывающаго дѣйствія пошлой среды. Ядринцевъ написалъ ему письмо, приглашающее пріѣхать въ столицу; въ томъ родѣ написалъ и я, хотя и не былъ съ нимъ знакомъ. Вскорѣ я получилъ отъ Наумова длинный восторженный отвѣть. Это письмо не сохранилось, но я почему-то запомнилъ его форматъ и вообще внѣшній видъ его и отчасти и содержаніе. Большое письмо было наполнено воображаемыми картинами; будущій разсказчикъ подробно представлялъ себѣ, какъ мы бродимъ по столичнымъ тротуарамъ, въ какой красивой обстановкѣ мы себя видимъ, какія ощущенія культурной жизни мы, счастливцы, испытываемъ, и далѣе онъ признавался, что завидуетъ намъ и всей душой желалъ-бы исполнить наше желаніе, явиться на наше приглашеніе. Должно быть наши письма были очень соблазнительно написаны; Наумовъ вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ Петербургъ.
Теперь, вѣроятно, уже не рѣдки случаи, когда молодой человѣкъ, побуждаемый желаніемъ продолжать ученіе, рискуетъ направиться изъ далекой провинціи въ негостепріимную столицу съ небольшими денежными средствами. Такіе случаи были уже не рѣдкостью и въ шестидесятыхъ годахъ. Сибиряки выѣзжали въ Петербургъ, имѣя въ карманѣ не болѣе тридцати рублей, иногда даже не болѣе десяти, а Наумовъ выѣхалъ положительно безъ гроша. Онъ съ вокзала проѣхалъ къ одному изъ своихъ земляковъ на Васильевскій островъ и къ счастью засталъ его дома, такъ какъ долженъ былъ сейчасъ же обратиться къ нему съ просьбой уплатить извозчику двугривенный; его собственный кошелекъ уже на вокзалѣ былъ пустой и извозчикъ былъ нанятъ въ долгъ.
На первыхъ порахъ Наумовъ долженъ былъ стать въ ряды петербургской литературной богемы. Трое земляковъ, я, Наумовъ и студентъ изъ Иркутска Куклинъ поселились вмѣстѣ въ одной комнатѣ на Васильевскомъ островѣ. Такъ мы прожили одну зиму; на лѣто мы разъѣхались; я съ Куклинымъ уѣхалъ въ калужскую губернію гербаризировать, а Наумовъ провелъ это лѣто въ Москвѣ у своихъ товарищей по гимназіи, у братьевъ Садовниковыхъ, которые слушали лекціи на юридическомъ факультетѣ московскаго университета. На зиму мы, сибиряки, опять соединились вмѣстѣ и при томъ въ большемъ числѣ, но только размѣстились иначе. Мы поселились въ домѣ Воронина въ Академическомъ переулкѣ, въ четвертомъ этажѣ.
У хозяйки нашей квартиры было четыре свободныхъ комнаты, три побольше, одна небольшая; всѣ четыре комнаты были заняты сибиряками. Въ одной комнатѣ поселились Ядринцевъ и Наумовъ, въ другой — казачій офицеръ Ф. Н.
Усовъ, пріѣхавшій изъ Омска слушать лекціи въ военной академіи, въ третьей комнатѣ—я и Куклинъ, въ четвертой, самой небольшой,—Ив. Александ. Худяковъ. Ф. Н.
Усовъ былъ лучше обставленъ въ денежномъ отношеніи, чѣмъ мы; онъ получалъ офицерское жалованье, кромѣ того получалъ пособіе изъ дома, такъ какъ его отецъ былъ зажиточный человѣкъ. Онъ одинъ занималъ цѣлую комнату *). Остальная компанія не могла съ нимъ равняться; наши заработки были не велики и не постоянны. Поэтому мы составили отдѣльный хозяйственный союзъ. Все, что мы зарабатывали, уходило у насъ главнымъ образомъ на плату за квартиру, такъ что питались мы очень скудно; мы могли имѣть только чай и картофель. Горячаго обѣда мы не имѣли; вмѣсто того хозяйка покупала для насъ картофель, варила его и мы съѣдали его съ масломъ. Чай, ситный хлѣбъ, картофель и масло—вотъ и все наше меню въ то время. Въ эту картофельную кооперацію входили Наумовъ, Ядринцевъ, я и Куклинъ. Усовъ не входилъ въ нее, какъ болѣе богатый, а Худяковъ, какъ болѣе бѣдный; онъ былъ бѣднѣе и насъ, онъ не имѣлъ средствъ и на картофель, и питался только чаемъ и бѣлымъ хлѣбомъ съ масломъ **).
Когда мы звали Наумова въ Петербургъ, мы конечно мотивировали свой призывъ необходимостью университетскаго образованія. И дѣйствительно, Наумовъ пріѣхалъ съ мечтой поступить на историко-филологическій факультетъ. Его соблазнялъ примѣръ учителя Игнатьева, который читалъ исторію въ томской гимназіи, когда въ ней учился Наумовъ. Это было единственное свѣтлое явленіе въ томской гимназіи; по крайней мѣрѣ его уроки нравились гимназистамъ. Наумовъ тоже увлекался краснорѣчіемъ этого учители; онъ вѣрилъ, что если-бъ онъ прослушалъ курсъ исторіи, то сталъ бы также краснорѣчиво передавать ее съ кафедры, какъ Игнатьевъ, или еще краснорѣчивѣе; ему казалось, что для него высшимъ счастьемъ было бы вернуться въ томскую гимназію учителемъ исторіи и съ такою же силою увлекать учениковъ, какъ Игнатьевъ когда-то приводилъ въ восхищеніе его самого, но вскорѣ убѣдился, что у него нѣтъ времени на слушаніе лекцій и на возню съ учебниками; надо было зарабатывать хлѣбъ насущный.
Омская казарма познакомила Наумова съ солдатской жизнью и это знаніе теперь пригодилось ему. Онъ началъ писать очерки изъ этой жизни. Они помѣщались частью въ „Свѣточъ", который издавалъ Милюковъ, частью въ журбуналѣ
дли солдатъ, издававшемся Погосскимъ. Послѣдній далъ Наумову занятія въ своей конторѣ, а Милюковъ пригласилъ его на свои вечера, которые были многолюдны и оживлялись иногда горячими диспутами, наприм. Антоновича съ Достоевскимъ. Наумовъ сдѣлался уже извѣстенъ литературнымъ кругамъ, получилъ входъ на литературные журъ-фиксы и получилъ титулъ „второго послѣ Погосскаго разсказчика изъ солдатскаго быта", а Ядринцевъ все еще былъ только формирующимся юношей.
Впрочемъ немного позднѣе успѣховъ Наумова совершилось и вступленіе Ядринцева въ литературную семью. Вечеромъ Наумовъ вбѣжалъ въ комнату, въ которой жили я и Куклинъ и сталъ насъ звать съ собой. „Ядринцевъ получилъ литературное крещеніе! Его статьи напечатана въ „Искрѣ"! Пойдемте! Надо спрыснуть"! Рѣшено было отправиться въ пивную, которая помѣщалась въ нижнемъ этажѣ большого дома на углу Большого Проспекта 2 линiи и въ которой получалась „Искра". Захвативъ Ядринцева, мы цѣлымъ землячествомъ спустились въ пивную. Наумовъ скомандовалъ подать пиво, взялъ „Искру" и вслухъ прочиталъ намъ первое произведеніе своего друга. Потомъ мы выпили по стакану пива. Виновникъ этой пирушки разумѣется былъ очень доволенъ и веселъ, но и мы всѣ были тоже рады его празднику; статейка была крошечная и содержаніе, вѣроятно, не важное, но для насъ это было цѣлое событіе. Мы вѣрили, что нашъ другъ будетъ литераторомъ, но когда—это было еще неизвѣстно; вдругъ, что было будущимъ, стало настоящимъ, посторонній ареопагъ призналъ его совершеннолѣтнимъ и онъ получилъ возможность вмѣсто маленькаго пріятельскаго кружка дѣлиться своими мыслями съ огромной аудиторіей.
Эти два юноши, Ядринцевъ и Наумовъ, на пріятельскій кружекъ производили совершенію различное впечатлѣніе. Ядринцевъ былъ юноша, полный надеждъ въ будущемъ, увѣренный въ своихъ силахъ, съ нѣкоторымъ юношескимъ самомнѣніемъ; своимъ остроуміемъ и своей легкой воспріимчивостью онъ вносилъ веселье въ свою пріятельскую бесѣду. Молодые люди, правда, сами были полны бодрости и не нуждались въ подбадриваніи, но о Ядринцевѣ можно было по крайней мѣрѣ, сказать, что онъ не нарушалъ общаго оптимистическаго настроенія, не вносилъ диссонанса въ этотъ концертъ молодыхъ душъ. Совсѣмъ въ другомъ родѣ ощущенія приходилось испытывать друзьямъ отъ соприкосновенія съ духовнымъ организмомъ Наумова. Самые легкіе удары судьбы смущали его духъ и онъ начиналъ ныть, отчаиваться въ своихъ способностяхъ, развѣнчивать себя въ заурядные люди, бранить себя глупцомъ за то, что возомнилъ о себѣ слишкомъ и поѣхалъ въ столицу; наконецъ онъ впадалъ въ апатію, ложился на диванъ и ничего не дѣлалъ. Въ Ядринцевѣ всегда чувствовался не унывающій помощникъ, Наумова надо было иногда поддерживать, утѣшать, и убѣждать, что онъ ошибается, умаляетъ свой талантъ, что онъ преувеличиваетъ свои недостатки. Друзья иногда испытывали мучительное безпокойство, не находя средства влить въ разочарованную душу увѣренность въ своихъ силахъ.
Въ это время въ Петербургъ пріѣхалъ тобольскій губернаторъ Деспотъ-Зеновичъ и обратился къ литератору С. В. Максимову съ просьбой рекомендовать ему въ чиновники нѣсколькихъ молодыхъ честныхъ литераторовъ, знакомыхъ сколько-нибудь съ народнымъ бытомъ. Максимовъ въ числѣ другихъ рекомендовалъ и Н. И. Наумова. Наумовъ уѣхалъ въ Сибирь и получилъ сначала мѣсто на сѣверѣ отъ Тобольска, а потомъ, кажется послѣ того, какъ Деспотъ- Зеновичъ оставилъ край, перешелъ на службу въ контрольную палату въ Омскъ, начальникомъ которой былъ г. Петровъ, выдвинутый по службѣ Деспотомъ-Зеновичемъ, который впервые познакомился съ нимъ въ Кяхтѣ, на мѣстѣ его родины. Съ этого времени началось знакомство Наумова съ Петровымъ, которому онъ обязанъ послѣдующей своей чиновничьей карьерой.
Прослуживъ нѣсколько лѣтъ въ Сибири и набравъ новаго матеріала для разсказовъ среди сибирскихъ крестьянъ, Н. И. Наумовъ вновь выѣхалъ Петербургъ. Вскорѣ появился его новый разсказъ „Сельскій торгашъ“, а затѣмъ другой—„Юровая“. Присоединивъ къ нимъ еще нѣсколько новыхъ разсказовъ, Наумовъ составилъ и издалъ сборникъ, которому далъ имя: „Сила солому ломитъ". Эта книжка создала автору болѣе прочную извѣстность, чѣмъ прежніе его писанія, поставила его въ ряды лучшихъ писателей изъ народнаго быта и доставила знакомство съ Гл. Успенскимъ и Златовратскимъ. Книжка особенно понравилась молодежи, которая усиленно ее распространяла; имя автора въ глазахъ молодежи было окружено ореоломъ. Вѣроятно только это одно обстоятельство и сдѣлало книгу подозрительной; её не изъяли ни изъ продажи, ни изъ библіотекъ, но при обыскахъ конфисковали. Впослѣдствіи всякое подозрѣніе съ книги было снято, и она въ полномъ составѣ вошла въ „Собраніе сочиненій" Наумова, изданное въ 1897 г.
Время, когда печатался и читался сборникъ „Сила солому ломитъ", было самое лучшее въ жизни сибирскаго беллетриста. Это было время расцвѣта его таланта, время его литературнаго успѣха; къ извѣстности въ читающей средѣ присоединилось и семейное счастье: въ это время Ник. Ив. женился.
Послѣ перваго сборника Н. И. Наумовъ издалъ другой, подъ названіемъ: „Въ тихомъ омутѣ". Затѣмъ онъ опять начать хандрить и впадать въ апатію. Какъ Антею для возстановленія силъ нужно было прикасаться къ землѣ, такъ Наумову для душевнаго возрожденія нужно было спускаться въ народъ. Его покровитель Петровъ устроилъ ему мѣсто въ Сибири, сначала въ Маріинскѣ, потомъ въ Томскѣ, но болѣзнь, которая давно, съ молоду подтачивала его организмъ и была главною причиною его минорныхъ настроеній, теперь увеличилась и не позволила писателю заниматься литературой съ прежней силой.
______________________
*) Ф. И. Усовъ, не окончивъ курса въ академіи, вернулся въ Омскъ. Впослѣдствіи это былъ одинъ изъ лучшихъ офицеровъ, отдававшій часть своего времени просвѣтительной дѣятельности. Онъ былъ однимъ изъ трехъ атамановъ сибирскаго казачьяго войска и умеръ въ этой должности въ Кокчетавѣ.
**) И. А. Худяковъ родомъ былъ тоболякъ, сначала былъ студентомъ казанскаго университета, потомъ въ Москвѣ слушалъ лекціи Буслаева, a по окончаніи курса пріѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ собирался издавать журналъ по фольклору, но рано оставилъ науку для другой дѣятельности и умеръ молодымъ въ Иркутскѣ. Если-бъ онъ не покинулъ науку, изъ него вышелъ бы замѣчательный ученый (мифологъ); уже тогда, когда мы познакомились съ нимъ, онъ удивлялъ всѣхъ необыкновенной для студента эрудиціей. Въ то время онъ жилъ одними научными интересами; всѣ деньги, которыя онъ вырабатывалъ, уходили у него на книги: какъ онъ скудно питался, я уже сказалъ. Столь же бѣдна была и его обстановка. Въ комнатѣ у него былъ всего одинъ стулъ и одинъ столъ безъ одной ножки, такъ что писать на немъ было можно, только прижавъ его къ стѣнѣ. Кромѣ того въ комнатѣ стоялъ большой сундукъ, который замѣнялъ кровать; на немъ молодой ученый аскетъ спалъ. Этотъ сундукъ былъ до крышки набитъ нѣмецкими книгами въ родѣ нѣмецкой мифологіи Гринна. Это была и кровать, и библіотека вмѣстѣ.
*****
Эскизы безъ тѣней*).
(Изъ жизни сибирскаго крестьянства).
Въ первый же мѣсяцъ по вступленіи моемъ въ должность чиновника по крестьянскимъ дѣламъ пришли ко мнѣ въ селѣ Ал...ѣ двѣ женщины, мать съ дочерью. Мать была уже старушка, дочь молодая, миловидная женщина; подъ обоими глазами дочери были огромныя синевицы, правая щека, съ сильной опухолью, была вся исцарапана. Обѣ онѣ, какъ вошли, такъ и повалились мнѣ въ ноги.
— Защити, кормилецъ! — произнесла мать, поднимаясь на ноги, и крупныя слезы потекли изъ глазъ ея, капая на концы платка, какимъ была окутана голова. —Выдали вотъ дочку замужъ, да не на радость; думали устроить ее, вздохнуть на старости, а дѣло-то вышло, погубили только ее. Грѣхъ на душу приняли. Слезами теперь исхожу, глядя на жизнь-то ея, на тиранство. Дѣло-то мое со старикомъ одинокое, сиротское. Были дѣтки-то да во младенчествѣ помирали все, только и вырастили одну дочку, опору-то на старость. Поколь старикъ-то мой въ силахъ былъ, все исшо ничего, робили, кормилецъ, по чужимъ людямъ за хлѣбомъ не ходили и скотинка у насъ есть, четыре упряжныхъ лошадки держимъ, три коровушки, овечекъ, будто, десятокъ, и домишко въ порядкѣ, все какъ слѣдъ быть по хрестьянству-то; не богатое дѣло, а все, говорю, по чужимъ людямъ не займуемся, и хлѣбца засѣвали и на свое пропитанье хватало и излишечекъ былъ, продавали. Ну только года два время, скажу тебѣ, старикъ-то мой все перепадать сталъ, нѣтъ, нѣтъ да и занеможется ему, а дѣло мое женское и тоже ужъ годы то старые, всего изнять по хозяйству-то не въ моготу, а работника нанять силы нѣть. Ея же дѣло дѣвичье, гдѣ ей супротивъ мужика хозяйствомъ орудовать? И были за нее женихи-то изъ хорошихъ семей, изъ зажиточныхъ, сватовъ засылали, да подумаемъ, подумаемъ бывало со старикомъ-то, погадаемъ это—какъ отдать ее въ чужіе люди?., мы-то при комъ останемся на старости-то своей? тогда вѣдь водицы-то испить тебѣ некому дать будетъ, подать, коли занеможется, коли на одрѣ смертномъ лежать будемъ. Ну, и поклонимся бывало за честь. Ужъ замужъ думали выдавать, такъ надоть въ домъ къ себѣ взять и хозяйство-то штобъ не рушилось и за нами-то при древности нашей призоръ бы былъ. А какой же тебѣ путный хозяинъ отъ своего добра, отъ своего дома сына въ чужой отдастъ? Суди! И приходилось ужъ подбирать жениха изъ бѣднаго достатка, сироту какого ни есть Ну, и выискался этакій, выдали! Изъ ссыльныхъ онъ, нашего же села хрестьяиннъ, въ работникахъ жилъ и сколько годовъ у степеннаго хозяина, и тотъ нахвалиться, слышь, не могъ имъ. Въ чемъ не возьми, и радѣтельный, говорить, и твердый и никакихъ шалостей, али баловства не примѣтно было за нимъ, одна будто слава, што ссыльный, такъ вѣдь и ссыльный человѣкъ же, думали мы. Иные изъ нихъ, глядико, какъ хорошо живутъ, худова слова не услышишь про нихъ. Грѣхъ-то вѣдь надъ всякимъ стрястись можетъ, не уйдешь. Ну, какъ бы, думали, но усчастливиться человѣку: изъ работника хозяиномъ сталъ. Чего говорить, не богатое дѣло наше, да коли съ умомъ, да радѣньемъ, да особливо, при молодыхъ силахъ, такъ и очень бы даже можно на ноги стать. Ну и выдали дочку то за него, свадьбу сыграли—это не плошь другихъ. Глядимъ живетъ зятекъ ничего бы ровно, радѣтельный къ дому: ни свѣтъ, ни заря, бывало,
а ужъ Абрамушко нашъ на ногахъ, на работѣ убивается и съ нами то, со стариками, изъ уваженья не выходилъ. Радовались. Съ годъ этакъ путно-то прожилъ онъ, а тутъ, толи по чьей наукѣ, толи ужъ это онъ только прилики показывалъ намъ, степенство-то напущалъ на себя. Богъ его знаетъ, темное дѣло-то, въ чужую душу не заглянешь, какъ судить будешь? Только все, говорю, приговариваться онъ зачалъ къ старику-то: „Сдѣлай де гумагу, што все хозяйство и домъ въ благословенье даемъ ему!“ Ну, старикъ-то мой съ разсудкомъ человѣкъ, изъ своей-то сотни его не выбрасывали, голосомъ его обчество не брезговало. Старикъ-то и говоритъ ему: „Ты де, Абрамъ, не дикуй, коли Богъ по душу нашу пошлетъ, такъ и домъ, и все, што въ дому-то есть, и скотинка и обзаводъ по хозяйству, и безъ гумаги твоихъ рукъ не минуетъ. Дочь-то у насъ одна, другихъ то дѣтокъ не судилъ Богъ вспоить, вскормить, стало быть, окромя тебя и вникаться въ добро- то наше некому, такъ нашто тебѣ благословленую-то гумагу?" Ну, послушать онъ будто-бы слова-то его, примолкнетъ кое время, а тамъ съизнова, слышимъ, о гумагѣ рѣчь поведетъ.
— Нашто тебѣ допрежъ время гумагу эту?— спроситъ его бывало старикъ то мой.
— Для спокойства, говоритъ, совѣсти, тятенька, потому, говоритъ, я роблю, роблю, рукъ не покладаю, а не ровенъ часъ, ты въ сердце войдешь и скажешь,—поди вонъ! Куда я тогда?..
— Глупый ты, глупый! начнетъ это, бывало, тихимъ словомъ старикъ-то мой увѣщать его, мы тебя и въ домъ-то затѣмъ приняли, дѣтище свое отдали тебѣ, штобъ хозяйство не рушилось, опору отъ тебя да призоръ бы во старости имѣть, а не затѣмъ, штобъ за твой трудъ и радѣнье изъ дому тебя гнать. Кинь ты энту блажь изъ головы—никакой тебѣ гумаги я дѣлать не стану, а помремъ со старухой, такъ и безъ гумаги все твое будетъ—владай!
— Нѣтъ, говоритъ, отецъ, такъ-то не гоже...
— Пошто-жъ?
— Сичасъ-то ты вотъ будто умомъ судишь, а почемъ, говоритъ, знать, што тебя завтра не вышибетъ изъ него: и то тебѣ будетъ не такъ, и друго не по нраву, а ты хозяинъ въ дому,— не угодишь тебѣ—ты и скажешь: поди вонъ! И иди, потому—твоя воля, ты дому хозяинъ, примѣры-то экіе, говоритъ, бывали!
— Образумься, живи въ спокоѣ, знай свое дѣло, а помыслы энти выкинь изъ головы,— старикъ-то все увѣрялъ его.
— Нѣтъ, подай гумагу!—присталъ это однова. Безъ гумаги—я чужой человѣкъ въ дому у тебя, ни въ чемъ не воленъ, роблю, роблю, а коли зерно какое занадобится продать, такъ все кь тебѣ за спросомъ иди. Я ужъ, говоритъ, не малолѣтокъ, въ разумѣ человѣкъ и самъ могу добромъ владѣть, хозяйствомъ-то орудовать... Въ упряжи то у тебя ходить-то мнѣ не пристало...
— Иѣшто тягостно?—смѣхомъ это старикъ- то спрашиватъ.
— Не въ сладость...
— Какъ же ты говоришь, што не воленъ продать, чево занадобится, а развѣ я тебѣ прекословилъ, коли ты путно чего дѣлать надумывалъ, а?—старикъ-то спрашивать. „А коли ты за спросомъ придешь, за словомъ, такъ не ужъ это тебѣ утруднительно, а?.. Ты вотъ съ годъ только поробилъ, да и тутъ ужъ свои труды считать сталъ, да и робилъ то ты не одинъ, и я, хоть черезъ силу мочи, да помогалъ тебѣ, на печи не валялся. А я то, говорить, всю жизнь свою на хозяйство-то поклалъ, всю свою силу измоталъ на него, такъ нѣшто мнѣ не бѣдно, коли ты зря-то, безъ надобности, будешь распродавывать, да хозяйствовать на свой ладъ, а?.. Умру, ну тогды и орудуй, какъ знаешь, а поколь живъ я, такъ тоже, Абрамушко, и мово слова поспрошать да послухать надо!..
— Такъ не дашь, говоритъ, гумаги?..
— Не дамъ! А ты живи лучче по Божески, въ ладу, да въ мирѣ, хозяйствуй сообча, ты еще младъ человѣкъ, не твердъ разумомъ, какъ погляжу, старика-то и послухай, жизнь то моя ужъ коротка, а твоя то, можетъ, длинна, доброе то слово иной часъ и погодится тебѣ,— увѣщалъ это старикъ-то его. Ну, чего тебѣ недостаетъ, скажи?
— Воли, говоритъ!
— А нѣшто ты привязанъ, нѣшто кто отнимаетъ ее у тебя, а?..
— И не привязанъ, да въ путахъ, говоритъ, хожу.
— Въ какихъ?.. Кто тебя опутывалъ?..
— Ты, говоритъ.
— Чѣмъ я тебя путалъ, скажи?—допытывать старикъ-то сталъ. Въ чемъ ты нужу терпѣлъ, а?.. Ты вотъ въ работникахъ жилъ, изъ чужихъ рукъ глядѣлъ, всегда подъ чужимъ глазомъ да указомъ ходилъ, такъ неужъ тогды у тебя больше воли-то было, путъ то не было, чѣмъ теперь, когды ты почесть полный хозяинъ въ дому, а?.. Глупый ты, глупый, чего тебѣ надоть, и самъ не знаешь; и обшили тебя, и обмыли, за кускомъ ты въ чужіе люди не идешь, слава Богу, свой есть, припасено, чѣмъ ты исшо не доволенъ? Или у тебя норка-то свиститъ—гумагу-то взять, да потомъ размотать все, чего мы наживали, самому-то куда ни на есть уйти, а насъ по міру на старости пустить? Нѣтъ, Абрамушко, поколь я живъ, энтаго не будетъ: зря мотать добра своего не дамъ, а живи ты лучче безъ зазору. Чужихъ-то наукъ не слушай. Чего сробишь, такъ на себя же вѣдь сро- бишь, тебѣ же все останется.
Ну, послѣ этихъ словъ не сталъ онъ болѣ съ гумагой приставать, унялся... Только, видимъ, измѣнился нашъ Абрамушко, гдѣ бы ро- бить надоть, по хозяйству чего править, а ему и думушки мало. Сидитъ себѣ на завалинкѣ, въ трубку попыхиваетъ, да поплевываетъ, аль уйдетъ куды, гдѣ шатается, зачѣмъ—и Богъ вѣсть. Глядѣлъ, глядѣлъ это старикъ то мой, все было молчалъ, полагалъ, што уходится въ немъ дурь-то энта. Ну, не вытерпѣлъ, взнутрило его; „ты што же энто, Абрамъ, дому то рѣшился?"—спросилъ оръ однова.
— А чего, говоритъ, мнѣ въ дому то дѣлать?
— Какъ чего, нѣшто ужъ дѣла въ дому не стало, не къ чему рукъ приложить, а?..
— Видать, што не къ чему. У тебя вѣдь свой, говоритъ, хозяйскій глазъ есть да воля, и орудуй, какъ знаешь, правь, што спорухалось...
— А ты батракъ нѣшто?..
— Хуже!.. Батракъ-то какое ни есть награжденье получатъ, а ты чего мнѣ даешь?—говоритъ. Гривна-то на табакъ занадобится, такъ и то съ поклономъ да со спросомъ иди къ тебѣ.
— Ну, парень, рано-же ты совѣсть-то потерялъ,—старикъ-то сказалъ ему... рано...
— Ужъ чего потеряно—не найдешь, —Аб- рамъ-то отвѣтъ держитъ,—а новой наживать не доводится,—говоритъ. Кто про совѣсть-то вспоминать, такъ, можетъ, по ранѣ меня исшо по вѣтру размотала, ее,—да плюнулъ это и ушолъ...
(Окончаніе будетъ).
*) Изъ ненапечатанныхъ рассказовъ покойнаго Н. И. Наумова
*****
Къ рисункамъ.
Мы имѣли возможность видѣть рукописи Н. И. Наумова. Какъ видно изъ нихъ, онъ тщательно обрабатывалъ свои произведенія, по нѣсколько разъ измѣняя, дополняя, выбрасывая написанное или создавая совершенно новый текстъ. Очевидно писатель очень строго и требовательно относился къ своей работѣ. Потому и неудивительно, что несмотря на продолжительный періодъ литературной дѣятельности, онъ сравнительно не много написалъ и напечаталъ. Напечатанное въ этомъ № факсимиле Наумова характеризуетъ его большую требовательность въ отношеніи своихъ литературныхъ работъ.
*****
Отъ редакціи.
Г. Равичъ-Щербо въ письмѣ изъ Омска на имя редакціи указываетъ на невѣрность, допущенную въ статьѣ „Театръ въ Иркутскѣ", помѣщенной въ XX приложеніи къ „Сибирской Жизни", a именно: въ этой статьи сказано, что постройка иркутскаго театра обошлась въ 170.000 рубл. Это, оказывается, не вѣрно; г. Равичъ-Щербо. бывшій членомъ театральной дирекціи съ начала постройки во конца, сообщаетъ, что постройка иркутскаго театра стояла но 170 т., а 808 тысячъ. Приносимъ г-ну Равичъ-Щербо благодарность за эту поправку.
Двухслойный pdf (текст под картинками)
https://yadi.sk/i/RQ5j7c0HrGYPd
pdf без маски (текст и картинки)
https://yadi.sk/i/yIBoaAsVrGYVX
Двухслойный pdf (текст поверх картинок)
https://yadi.sk/i/yNPHDOsMrGYTb
Среди немногочисленныхъ сибиряковъ беллетристовъ Н. И. Наумовъ занимаетъ безпорно первое мѣсто. Въ 70-хъ и 80-хъ годахъ его произведенія, появлявшіяся на страницахъ лучшихъ русскихъ журналовъ и отдѣльными книжками: („Сила солому ломитъ", „Въ тихомъ омутѣ",
„Въ забытомъ краю", „Паутина") привлекали къ себѣ вниманіе и симпатію читателей наравнѣ съ произведеніями Глѣба Успенскаго и Златовратскаго какъ мастерскимъ выполненіемъ поставленныхъ темъ, такъ и интересомъ ихъ съ точки зрѣнія читателя того времени. Статья Наумова являлась украшеніемъ журнальной книжки. То было время, когда культурная часть русскаго общества болѣе, чѣмъ нынѣ, интересовалась бытомъ русской деревни, деревенской народной психологіей, устоями деревенской жизни.
Во главѣ писателей, удовлетворявшихъ этотъ интересъ, открывавшихъ, такъ сказать, „тайны русской деревни", стояли безпорно Гл. Успенскій и Златовратскій, но они иногда впадали въ идеализацію наблюдаемыхъ явленій, что, конечно, объясняется ихъ горячей любовью къ русскому простому народу. У Наумова нѣтъ этой идеализаціи и не потому, чтобы онъ не любилъ народъ en masse, не болѣлъ его горестями и печалями, а потому, что онъ по складу своего ума не способенъ къ идеализаціи. По темамъ своихъ произведеній онъ писатель народнаго быта, но онъ не народникъ, въ общепринятомъ смыслѣ этого термина, хотя его нѣкоторые и причисляютъ къ этой категоріи.
По условіямъ своей служебной дѣятельности онъ имѣлъ возможность хорошо ознакомиться съ бытомъ сибирскихъ крестьянъ и изображенію его посвятилъ большую часть своихъ произведеній. Его можно назвать бытописателемъ сибирской деревни.
Россійская и сибирская деревни много отличаются другъ отъ друга, что вполнѣ и понятно, такъ какъ жизнь ихъ сложилась подъ вліяніемъ различныхъ историческихъ факторовъ. Сибирь не знала ни крѣпостного права, ни барщины, ни помѣщичьей власти, ни земельнаго угнетенія, но съ другой стороны въ Сибири не было и культурнаго элемента, который жилъ бы вблизи деревни и въ ней самой, который интересовался бы деревенской жизнью и выдѣлилъ бы изъ среды своей хотя бы небольшую группу лицъ, пожелавшихъ принести пользу деревенской средѣ. Въ Сибири не было и до сихъ поръ нѣтъ земства, которое преслѣдовало бы культурныя задачи, стремясь внести свѣтъ въ темное деревенское царство. Отдаленность деревенскихъ сибирскихъ дебрей отъ административныхъ центровъ, отсутствіе въ сибирской деревнѣ лицъ, которые сумѣли бы указать путь, на которомъ можно отыскать защиту попранныхъ личныхъ и имущественныхъ правъ, отсутствіе такихъ лицъ до послѣдняго времени даже въ сибирскихъ городахъ, полнѣйшее отсутствіе гласности въ самомъ недалекомъ сибирскомъ прошломъ, дореформенное невѣжественное, но алчное и, сознававшее свою силу и безотвѣтственность, чиновничество, среди котораго порядочные люди не могли ужиться, вотъ та атмосфера недалекаго сибирскаго прошлаго, въ которой жила сибирская деревня (60-хъ и 70-хъ годовъ—временъ Наумова и которую запечатлѣлъ талантливый беллетристъ въ своихъ повѣстяхъ и разсказахъ.
Громадное большинство людей правила своего поведенія почерпаютъ исключительно изъ наблюденій надъ окружающей жизнью. Человѣку естественно мечтать и стремиться къ своему благополучію и опять таки для громаднаго большинства въ некультурномъ обществѣ, гдѣ общественное мнѣніе не отлилось въ благородную сдерживающую форму—пути достиженія благополучія безразличны—лишь бы они вели прямо къ цѣли. Жизнь сибирской деревни, какъ она изображается у Наумова, воочію показала, что стоекъ и силенъ въ столкновеніяхъ съ жизненными перипетіями только тотъ, у кого въ рукахъ или власть, или деньги, матеріальный достатокъ. Та же деревенская жизнь показала еще, что власть и матеріальный достатокъ являются обыкновенно закадычными друзьями, помогающими другъ другу: власть не только умножаетъ достатокъ, но имѣетъ силу создать его и обратно: матеріальный достатокъ даетъ возможность заполучить въ свои руки власть. Усвоеніе этой философіи не требуетъ большаго умственнаго напряженія и доступно и для темнаго сибирскаго крестьянина. Деревня вполнѣ усвоила эту мудрость.
„Какъ, братецъ, въ ину пору не позавидуешь! уныло отвѣчалъ онъ (ямщикъ—крестьянинъ) послѣ непродолжительнаго раздумья.—Ты робишь, робишь всю жизнь, не покладая рукъ, а все у тебя прорѣхи однѣ, нигдѣ цѣльнаго мѣста не найдешь, а тутъ вонъ подъ бокомъ у тебя твой же братъ, мужикъ, да вѣдь какъ къ этому то дѣлу приладился. И живетъ то всласть, ни горя-то у него, ни заботы, и всего то у него вдоволь, и знаешь ты, што онъ такой же мужикъ, какъ ты, а робѣешь предъ нимъ, издали то завидишь его, такъ сами руки къ шапкѣ тянутся" (Паутина. Соч. Наумова, т. I, стр. 55—6).
„Въ рѣдкость тутъ, сударь, съ совѣстью человѣка найдете, въ рѣдкость"—говоритъ Флегонтъ Дмитричъ въ разсказѣ „Паутина". „Да и какъ среди этого гомона совѣсть соблюдешь. Иной бы, можетъ, и по совѣсти жилъ, да видитъ, что кругомъ и около дѣется, люди не сѣютъ, не жнутъ, а въ избыткѣ живутъ, и онъ, глядя на другихъ, распояшетъ руки, а совѣсть то за поясъ заткнетъ, да и примется, благословясь, за это же рукомесло, благо оно прибыльно!" (Ibid., т. I, стр. 72—73).
Въ разсказѣ „Ежъ", герой его, рабочій, говоритъ пріисковому управляющему: „По нашей, то мужичьей примѣтѣ мы судимъ. На нашу смѣтку, ваше почтеніе, коли у человѣка денегъ нѣтъ, такъ онъ и ростомъ то ровно ниже выглядитъ, и съ лица будто темный! А человѣкъ съ деньгой, не во гнѣвъ вашей милости, и бѣлѣй и румянѣе... и усмѣшка на алыхъ устахъ, и живетъ, какъ у вашей же милости!"
Каждому желательно „быть повыше ростомъ", но не каждый останавливается передъ средствами, и вотъ на фонѣ сибирской жизни запышнымъ
цвѣткомъ расцвѣтаетъ кулачество и міроѣдство. При полномъ отсутствіи доступнаго дешевого кредита въ сибирской деревнѣ, при отдаленности рынковъ для сбыта сельскохозяйственныхъ произведеній, сибирская крестьянская среда представляетъ, широкую арену эксплуататорской дѣятельности. Изъ темной крестьянской массы выдираются эти эксплуататоры сплошь и рядомъ благодари не уму и способностямъ, а случаю или преступленію. Стоитъ только немного подняться и опериться, а дальше путь къ матерьяльному
достатку уже открытъ. Въ разсказѣ: „Куда ни кинь, все клинъ" Абрамъ Николаевичъ говоритъ: „Тебѣ, чтобы копѣйку то въ карманъ залучить, сколько надоть потрудиться и ночей не доспать, и не допить, и не доѣсть, и горбъ то нагнуть до боли, да и то едва залучишь ее... а богатый то и на печи лежитъ, только и знаетъ одну работу—ѣсть всласть да спать безъ отдыху, а къ нему всё копѣйка плыветъ"... (Соч., т. I, стр. 246-7).
Въ каждомъ почти разсказѣ Наумовѣ фигурируетъ міроѣдъ—эта, столь знакомая жадная сибирской деревнѣ, фигура обыкновенно ражая, безсердечная, чванливая, сознающая свою силу и вліяніе. Поглумиться надъ бѣднотой, поиздѣваться, прижать ее, вырвать послѣдній кусокъ хлѣба—дѣло обычное, знакомое для кулака, доставляющее ему громадное наслажденіе. Наумовъ мастерски нарисовалъ много такихъ сценъ. Міроѣдъ иногда доходитъ до такого нахальства, что свои эксплуататорскіе поступки считаетъ благодѣяніемъ. Въ вопросахъ моральныхъ онъ доходитъ иногда прямо до кощунства;—„Нищъ... и вѣры нѣтъ, у кого дерюга въ дырахъ, у того и совѣсть сквозитъ!., “—говорить міроѣдъ Мятлевъ въ повѣсти Наумова „Погорѣльцы" (ibid., т. II, стр. 90). А другой кулакъ Кузьма Терентьинъ, опаивающій пріисковыхъ рабочихъ, выражается такъ о честныхъ людяхъ: „онъ потоль и честенъ, поколь ему украсть негдѣ"; и далѣе: „А теперича оно такъ выходитъ, што я можетъ, для того ворую и граблю, штобъ только надъ честнымъ человѣкомъ издѣваться да за всякое время его же изъ бѣды выручать,—для того и сдобный пирогъ ѣмъ, штобъ онъ съ голоду-то зубы на него скалилъ да завидовалъ мнѣ! Хе.. хе.. е.. “ (ibid., стр. 66—67).
Кулакъ міроѣдъ стремится захватить власть въ свои цѣпкія загребистыя руки или самъ непосредственно или черезъ своихъ родныхъ и зависимыхъ лицъ, для этого онъ не останавливается ни предъ подкупомъ, ни предъ интригами, ни предъ самымъ беззастѣнчивымъ обманомъ. Эта власть такъ заманчива, такъ поставлена въ сибирской деревнѣ, что и для человѣка бѣднаго, незначительнаго, открывается соблазнительный путь личнаго стяжанія, встать на который очень легко и возможно. „Не во гнѣвъ его милости, Николаю то Семенычу сказать",—говоритъ у Наумова одинъ старикъ: „съ первоначалу то, помнится, и-и-и съ какой оглядкой онъ къ казеннымъ-то бумажкамъ (деньгамъ) касался, а опосля такъ пообвыкъ, что индѣ карманы перемѣшалъ; гдѣ- надо въ казенный опустить, а онъ все въ свой да въ свой!“ (Мірской учетъ, соч., т. 11., стр. 20).
Злоупотребленіе властью въ цѣляхъ обогащенія при дореформенныхъ сибирскихъ порядкахъ, при деревенской тьмѣ, при господствѣ кулаковъ-міроѣдовъ сдѣлалось настолько обычнымъ, всѣмъ знакомымъ явленіемъ, что для сибирскаго мужика временъ Наумова вполнѣ убѣдительны и понятны слова главнаго героя разсказа „Мирской учетъ“ Харламова. Онъ говоритъ обличающимъ его злоупотребленіе крестьянамъ: „Воровъ-то у васъ и напредки будетъ много, поколь темнота ваша будетъ стоять, что дремучъ боръ“.
Тяжелое впечатлѣніе производитъ на читателя яркія картины сибирской деревенской нищеты, экономической безысходности наряду съ зажиточностью, сытой чванливостью, сознаніемъ своего вліянія сибирскихъ міроѣдовъ. Кабала свила прочное обширное гнѣздо, она захватила въ свои когти и крестьянъ-землепашцевъ, и инородцевъ, и пріисковыхъ рабочихъ, и не было во времена Наумова какой либо сильной благодѣтельной руки, которая оказала-бы помощь закабаленному населенію.
На общемъ мрачномъ фонѣ, нарисованной сибирскимъ бытописателемъ, картины однако выступаютъ и свѣтлыя черты—это протестующія и обличающія неправду и злоупотребленія единичныя личности, выдѣляемыя тѣмъ же крестьянскимъ міромъ. Наумовъ вѣритъ въ силу правды и справедливости, онъ полагаетъ, что эта живая струя, какъ бы не давила, не уничтожала ее темная сила, все таки не можетъ быть окончательно заглушена и проявляется, напоминаетъ о себѣ, заставляетъ съ собой считаться, причиняетъ хлопоты и безпокойство своимъ врагамъ. Эта вѣра писателя не является фантазіей писателя, нѣтъ, она основана на фактахъ, которые онъ наблюдалъ въ жизни. Да иначе и быть не можетъ. Въ обществѣ, которое не стоитъ на пути разложенія, на пути къ смерти, не можетъ быть окончательно утрачена идея справедливости. Хотя изрѣдка, хотя въ отдѣльныхъ личностяхъ, но она заявляетъ о своимъ существованіи. Въ некультурномъ обществѣ эта идея не чужда и сознанію массъ, но массы эти неорганизованы, не сплочены, не выработали сознанія необходимости коллективной борьбы для достиженія намѣченной цѣли, онѣ не могутъ и не умѣютъ поддерживать отдѣльную личность въ ея протестахъ, въ ея борьбѣ за общественный интересъ, онѣ покидаютъ ее въ силу инертности, боязливости отдѣльныхъ единицъ, въ силу недостаточно твердаго пониманія
общности интересовъ. Отдѣльные члены этихъ массъ или быстро устаютъ въ борьбѣ, или относятся крайне пассивно, или устрашаются, или же мѣняютъ общественные интересы на свои личные. Нерѣдко массы эти, наученные опытомъ прежнихъ лѣтъ, хотя и опытомъ по существу малоубѣдительнымъ, даже не выражаютъ желанія поддержать отдѣльную личность въ борьбѣ ея за общественное благо. Слѣдуетъ также замѣтить, что борьба даже извѣстной общественной группы, хотя бы борьба эта велась правильно и настойчиво, не всегда оканчивается побѣдой. Нерѣдко та сила, съ которой приходится бороться, хотя бы и сила темная, настолько могущественна, что на побѣду ея пока нечего и разсчитывать. Въ такихъ случаяхъ при пораженіи всѣ его тяжелыя послѣдствія сильнѣе всего падаютъ на отдѣльныхъ личностей, стоящихъ во главѣ, и личностей при томъ, конечно, лучшихъ. Сибирская деревня временъ Наумова также иногда дѣлала попытки борьбы, но та сила (обыкновенно міроѣдство), съ которой приходилось бороться, почти всегда выходила побѣдительницей, и единичныя личности, стоявшія во главѣ боровшагося крестьянскаго общества, жестоко платились за свою смѣлость: Въ произведеніяхъ Наумова читатель найдетъ массу иллюстрацій къ высказаннымъ ранѣе положеніямъ. Предъ читателемъ приходитъ цѣлый рядъ отдѣльныхъ личностей, протестующихъ противъ злоупотребленій и отстаивающихъ общественные интересы. Судьба ихъ всѣхъ печальна, онѣ надаютъ въ неравной борьбѣ, нерѣдко не получая даже поддержки со стороны тѣхъ, чьи интересы они хотятъ охранить и отстоять. Таковъ Дехтяревъ въ разсказѣ „Умалишенный", Корольковъ въ разсказѣ „Зажора", Бычковъ въ повѣсти „Крестьянскіе выборы", Ознобинъ въ разсказѣ „Мірской учетъ", „Ежъ" въ очеркѣ того-же названія и мн. друг.
Да, отдѣльныя личности погибли и погибаютъ, но на смѣну имъ идутъ и еще придутъ другія, для дѣятельности которыхъ, навѣрное, настанутъ лучшія времена. Въ крестьянствѣ еще много таится живыхъ силъ—вотъ выводъ, который вправѣ сдѣлать читатель Наумова. Что время это настанетъ рано-ли, поздно-ли, въ этомъ даже убѣждены нѣкоторые изъ наумовскихъ міроѣдовъ. Въ разсказѣ „Мірской учетъ" міроѣдъ Николай Семеновичъ Харламовъ, слова котораго я уже цитировалъ, говоритъ мужикамъ, обличавшимъ его въ присвоеніи общественныхъ суммъ: „воровъ то у васъ и напредки будетъ много, поколь темнота ваша будетъ стоять, что дремучъ боръ" (Мірской Учетъ. Соч., томъ 11, стр. 24).
Въ небольшой газетной статьѣ я поневолѣ долженъ ограничиться лишь указаніемъ на главные, но моему мнѣнію, такъ сказать, доминирующіе мотивы художественнаго творчества Наумова, не касаясь деталей и другихъ, быть можетъ, не менѣе интересныхъ темъ, затронутыхъ въ единичныхъ разсказахъ. Напримѣръ во 2-мъ томѣ сочиненій Наумова помѣщенъ образцовый по отдѣлкѣ и глубокій по содержанію разсказъ подъ названіемъ „Нефедовскій починокъ". Здѣсь нѣтъ ни кабалы, ни кулаковъ-міроѣдовъ, ни безысходной гнетущей нужды, толкающей на преступленіе, но за то мы встрѣчаемся съ темнотой, наивностью, нравственной неустойчивостью, за которую нельзя даже упрекнуть, выразить порицаніе.
Наумовъ намъ оставилъ хотя и небольшое по объему, но богатое по содержанію литературное наслѣдство, въ которомъ и современный человѣкъ найдетъ много интереснаго и поучительнаго. Произведенія Наумова не устарѣли, не потеряли интереса и для каждаго интеллигентнаго человѣка, въ особенности, если онъ проживаетъ въ Сибири, знакомство съ ними безусловно важно и необходимо. Хотя въ нынѣшней сибирской деревнѣ, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ частяхъ Сибири, и народились новые элементы, тѣмъ не менѣе Наумовскіе мотивы еще не отжили въ ней, не потеряли своей прежней остроты.
*****
Г. Потанинъ "Юные годы Н. И. Наумова"
Странное обстоятельство! Томская гимназія въ пятидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія со своими допотопными учителями была карикатурой на средне-учебное заведеніе; учебная часть въ ней была такъ плохо поставлена, какъ ни въ какъ другомъ учебномъ заведеніи въ Сибири.
И не смотря на то, эта гимназія того времени разомъ дала трехъ выдающихся сибирскихъ писателей: Ядринцева, Наумова и Кущевскаго. Ядринцевъ и Наумовъ были ровесники и, кажется, сидѣли въ одномъ классѣ; Кущевскій былъ въ другомъ возрастѣ, но и онъ учился одновременно съ Ядринцевымъ и Наумовымъ, хотя и не въ одномъ съ ними классѣ. Для меня подтвержденіе этого заключается въ томъ, что Наумовъ впослѣдствіи разсказывалъ, какъ гимназисты его времени, его товарищи, подъ вліяніемъ извѣстій о только что кончившейся осадѣ Севастополя, любили играть въ войну русскихъ съ французами, въ которой и онъ принималъ участіе, Кущевскій же, въ своемъ романѣ „Николай Негоревъ" тоже описываетъ подобныя игры гимназическихъ товарищей Негорева, несомнѣнно учениковъ томской гимназіи, и описываетъ, конечно, по личнымъ наблюденіямъ. Позднѣе старые курьезные учителя томской гимназіи были замѣнены новыми, лучше подготовленными, но изъ новаго поколѣнія, учившагося у нихъ, выдающихся фигуръ не вышло. Это странное несоотвѣтствіе состоянія школы съ ея результатами объясняется повышеннымъ тономъ общественной жизни того времени, когда Ядринцевъ, Наумовъ и Кущевскій, окончивъ школу, вступали въ жизнь. Внутренняя политика измѣнилась къ лучшему; появилась надежда на нѣкоторый просторъ въ сферѣ общественной дѣятельности; расширились права для частной иниціативы и человѣкъ съ даже скромными силами получилъ надежду найти сферу для своей дѣятельности. Люди почувствовали себя съ расправленными членами, общество рванулось къ дѣятельности, кто къ чему чувствовалъ себя способнымъ.
Николай Ивановичъ Наумовъ, оставивъ гимназію, поступилъ юнкеромъ въ сибирскую линейную пѣхоту. Служить ему пришлось въ Омскѣ. Еще до выѣзда въ Петербургъ, онъ послалъ въ столицу маленькій разсказъ „У перевоза который и былъ напечатанъ въ „Современникѣ". Наумовъ появился въ печати ранѣе Ядринцева, но въ Петербургъ выѣхалъ позднѣе. Ядринцевъ, пріѣхавъ въ столицу, разсказывалъ своимъ землякамъ въ Петербургѣ о своемъ оставленномъ на родинѣ другѣ и товарищѣ по гимназіи, какъ о будущемъ литературномъ работникѣ. Земляки тотчасъ-же составили проектъ вызвать молодого человѣка въ Петербургъ; тогда очень была сильна боязнь, что молодая сила можетъ въ провинціальной глуши легко затеряться, а выбравшись въ Петербургъ, хотя бы и не удалось поступить въ университетъ, если человѣкъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ только потолкается между студентами, и этого будетъ достаточно, чтобъ онъ накопилъ такую энергію, которая потомъ гарантируетъ его въ теченіи всей его жизни отъ засасывающаго дѣйствія пошлой среды. Ядринцевъ написалъ ему письмо, приглашающее пріѣхать въ столицу; въ томъ родѣ написалъ и я, хотя и не былъ съ нимъ знакомъ. Вскорѣ я получилъ отъ Наумова длинный восторженный отвѣть. Это письмо не сохранилось, но я почему-то запомнилъ его форматъ и вообще внѣшній видъ его и отчасти и содержаніе. Большое письмо было наполнено воображаемыми картинами; будущій разсказчикъ подробно представлялъ себѣ, какъ мы бродимъ по столичнымъ тротуарамъ, въ какой красивой обстановкѣ мы себя видимъ, какія ощущенія культурной жизни мы, счастливцы, испытываемъ, и далѣе онъ признавался, что завидуетъ намъ и всей душой желалъ-бы исполнить наше желаніе, явиться на наше приглашеніе. Должно быть наши письма были очень соблазнительно написаны; Наумовъ вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ Петербургъ.
Теперь, вѣроятно, уже не рѣдки случаи, когда молодой человѣкъ, побуждаемый желаніемъ продолжать ученіе, рискуетъ направиться изъ далекой провинціи въ негостепріимную столицу съ небольшими денежными средствами. Такіе случаи были уже не рѣдкостью и въ шестидесятыхъ годахъ. Сибиряки выѣзжали въ Петербургъ, имѣя въ карманѣ не болѣе тридцати рублей, иногда даже не болѣе десяти, а Наумовъ выѣхалъ положительно безъ гроша. Онъ съ вокзала проѣхалъ къ одному изъ своихъ земляковъ на Васильевскій островъ и къ счастью засталъ его дома, такъ какъ долженъ былъ сейчасъ же обратиться къ нему съ просьбой уплатить извозчику двугривенный; его собственный кошелекъ уже на вокзалѣ былъ пустой и извозчикъ былъ нанятъ въ долгъ.
На первыхъ порахъ Наумовъ долженъ былъ стать въ ряды петербургской литературной богемы. Трое земляковъ, я, Наумовъ и студентъ изъ Иркутска Куклинъ поселились вмѣстѣ въ одной комнатѣ на Васильевскомъ островѣ. Такъ мы прожили одну зиму; на лѣто мы разъѣхались; я съ Куклинымъ уѣхалъ въ калужскую губернію гербаризировать, а Наумовъ провелъ это лѣто въ Москвѣ у своихъ товарищей по гимназіи, у братьевъ Садовниковыхъ, которые слушали лекціи на юридическомъ факультетѣ московскаго университета. На зиму мы, сибиряки, опять соединились вмѣстѣ и при томъ въ большемъ числѣ, но только размѣстились иначе. Мы поселились въ домѣ Воронина въ Академическомъ переулкѣ, въ четвертомъ этажѣ.
У хозяйки нашей квартиры было четыре свободныхъ комнаты, три побольше, одна небольшая; всѣ четыре комнаты были заняты сибиряками. Въ одной комнатѣ поселились Ядринцевъ и Наумовъ, въ другой — казачій офицеръ Ф. Н.
Усовъ, пріѣхавшій изъ Омска слушать лекціи въ военной академіи, въ третьей комнатѣ—я и Куклинъ, въ четвертой, самой небольшой,—Ив. Александ. Худяковъ. Ф. Н.
Усовъ былъ лучше обставленъ въ денежномъ отношеніи, чѣмъ мы; онъ получалъ офицерское жалованье, кромѣ того получалъ пособіе изъ дома, такъ какъ его отецъ былъ зажиточный человѣкъ. Онъ одинъ занималъ цѣлую комнату *). Остальная компанія не могла съ нимъ равняться; наши заработки были не велики и не постоянны. Поэтому мы составили отдѣльный хозяйственный союзъ. Все, что мы зарабатывали, уходило у насъ главнымъ образомъ на плату за квартиру, такъ что питались мы очень скудно; мы могли имѣть только чай и картофель. Горячаго обѣда мы не имѣли; вмѣсто того хозяйка покупала для насъ картофель, варила его и мы съѣдали его съ масломъ. Чай, ситный хлѣбъ, картофель и масло—вотъ и все наше меню въ то время. Въ эту картофельную кооперацію входили Наумовъ, Ядринцевъ, я и Куклинъ. Усовъ не входилъ въ нее, какъ болѣе богатый, а Худяковъ, какъ болѣе бѣдный; онъ былъ бѣднѣе и насъ, онъ не имѣлъ средствъ и на картофель, и питался только чаемъ и бѣлымъ хлѣбомъ съ масломъ **).
Когда мы звали Наумова въ Петербургъ, мы конечно мотивировали свой призывъ необходимостью университетскаго образованія. И дѣйствительно, Наумовъ пріѣхалъ съ мечтой поступить на историко-филологическій факультетъ. Его соблазнялъ примѣръ учителя Игнатьева, который читалъ исторію въ томской гимназіи, когда въ ней учился Наумовъ. Это было единственное свѣтлое явленіе въ томской гимназіи; по крайней мѣрѣ его уроки нравились гимназистамъ. Наумовъ тоже увлекался краснорѣчіемъ этого учители; онъ вѣрилъ, что если-бъ онъ прослушалъ курсъ исторіи, то сталъ бы также краснорѣчиво передавать ее съ кафедры, какъ Игнатьевъ, или еще краснорѣчивѣе; ему казалось, что для него высшимъ счастьемъ было бы вернуться въ томскую гимназію учителемъ исторіи и съ такою же силою увлекать учениковъ, какъ Игнатьевъ когда-то приводилъ въ восхищеніе его самого, но вскорѣ убѣдился, что у него нѣтъ времени на слушаніе лекцій и на возню съ учебниками; надо было зарабатывать хлѣбъ насущный.
Омская казарма познакомила Наумова съ солдатской жизнью и это знаніе теперь пригодилось ему. Онъ началъ писать очерки изъ этой жизни. Они помѣщались частью въ „Свѣточъ", который издавалъ Милюковъ, частью въ журбуналѣ
дли солдатъ, издававшемся Погосскимъ. Послѣдній далъ Наумову занятія въ своей конторѣ, а Милюковъ пригласилъ его на свои вечера, которые были многолюдны и оживлялись иногда горячими диспутами, наприм. Антоновича съ Достоевскимъ. Наумовъ сдѣлался уже извѣстенъ литературнымъ кругамъ, получилъ входъ на литературные журъ-фиксы и получилъ титулъ „второго послѣ Погосскаго разсказчика изъ солдатскаго быта", а Ядринцевъ все еще былъ только формирующимся юношей.
Впрочемъ немного позднѣе успѣховъ Наумова совершилось и вступленіе Ядринцева въ литературную семью. Вечеромъ Наумовъ вбѣжалъ въ комнату, въ которой жили я и Куклинъ и сталъ насъ звать съ собой. „Ядринцевъ получилъ литературное крещеніе! Его статьи напечатана въ „Искрѣ"! Пойдемте! Надо спрыснуть"! Рѣшено было отправиться въ пивную, которая помѣщалась въ нижнемъ этажѣ большого дома на углу Большого Проспекта 2 линiи и въ которой получалась „Искра". Захвативъ Ядринцева, мы цѣлымъ землячествомъ спустились въ пивную. Наумовъ скомандовалъ подать пиво, взялъ „Искру" и вслухъ прочиталъ намъ первое произведеніе своего друга. Потомъ мы выпили по стакану пива. Виновникъ этой пирушки разумѣется былъ очень доволенъ и веселъ, но и мы всѣ были тоже рады его празднику; статейка была крошечная и содержаніе, вѣроятно, не важное, но для насъ это было цѣлое событіе. Мы вѣрили, что нашъ другъ будетъ литераторомъ, но когда—это было еще неизвѣстно; вдругъ, что было будущимъ, стало настоящимъ, посторонній ареопагъ призналъ его совершеннолѣтнимъ и онъ получилъ возможность вмѣсто маленькаго пріятельскаго кружка дѣлиться своими мыслями съ огромной аудиторіей.
Эти два юноши, Ядринцевъ и Наумовъ, на пріятельскій кружекъ производили совершенію различное впечатлѣніе. Ядринцевъ былъ юноша, полный надеждъ въ будущемъ, увѣренный въ своихъ силахъ, съ нѣкоторымъ юношескимъ самомнѣніемъ; своимъ остроуміемъ и своей легкой воспріимчивостью онъ вносилъ веселье въ свою пріятельскую бесѣду. Молодые люди, правда, сами были полны бодрости и не нуждались въ подбадриваніи, но о Ядринцевѣ можно было по крайней мѣрѣ, сказать, что онъ не нарушалъ общаго оптимистическаго настроенія, не вносилъ диссонанса въ этотъ концертъ молодыхъ душъ. Совсѣмъ въ другомъ родѣ ощущенія приходилось испытывать друзьямъ отъ соприкосновенія съ духовнымъ организмомъ Наумова. Самые легкіе удары судьбы смущали его духъ и онъ начиналъ ныть, отчаиваться въ своихъ способностяхъ, развѣнчивать себя въ заурядные люди, бранить себя глупцомъ за то, что возомнилъ о себѣ слишкомъ и поѣхалъ въ столицу; наконецъ онъ впадалъ въ апатію, ложился на диванъ и ничего не дѣлалъ. Въ Ядринцевѣ всегда чувствовался не унывающій помощникъ, Наумова надо было иногда поддерживать, утѣшать, и убѣждать, что онъ ошибается, умаляетъ свой талантъ, что онъ преувеличиваетъ свои недостатки. Друзья иногда испытывали мучительное безпокойство, не находя средства влить въ разочарованную душу увѣренность въ своихъ силахъ.
Въ это время въ Петербургъ пріѣхалъ тобольскій губернаторъ Деспотъ-Зеновичъ и обратился къ литератору С. В. Максимову съ просьбой рекомендовать ему въ чиновники нѣсколькихъ молодыхъ честныхъ литераторовъ, знакомыхъ сколько-нибудь съ народнымъ бытомъ. Максимовъ въ числѣ другихъ рекомендовалъ и Н. И. Наумова. Наумовъ уѣхалъ въ Сибирь и получилъ сначала мѣсто на сѣверѣ отъ Тобольска, а потомъ, кажется послѣ того, какъ Деспотъ- Зеновичъ оставилъ край, перешелъ на службу въ контрольную палату въ Омскъ, начальникомъ которой былъ г. Петровъ, выдвинутый по службѣ Деспотомъ-Зеновичемъ, который впервые познакомился съ нимъ въ Кяхтѣ, на мѣстѣ его родины. Съ этого времени началось знакомство Наумова съ Петровымъ, которому онъ обязанъ послѣдующей своей чиновничьей карьерой.
Прослуживъ нѣсколько лѣтъ въ Сибири и набравъ новаго матеріала для разсказовъ среди сибирскихъ крестьянъ, Н. И. Наумовъ вновь выѣхалъ Петербургъ. Вскорѣ появился его новый разсказъ „Сельскій торгашъ“, а затѣмъ другой—„Юровая“. Присоединивъ къ нимъ еще нѣсколько новыхъ разсказовъ, Наумовъ составилъ и издалъ сборникъ, которому далъ имя: „Сила солому ломитъ". Эта книжка создала автору болѣе прочную извѣстность, чѣмъ прежніе его писанія, поставила его въ ряды лучшихъ писателей изъ народнаго быта и доставила знакомство съ Гл. Успенскимъ и Златовратскимъ. Книжка особенно понравилась молодежи, которая усиленно ее распространяла; имя автора въ глазахъ молодежи было окружено ореоломъ. Вѣроятно только это одно обстоятельство и сдѣлало книгу подозрительной; её не изъяли ни изъ продажи, ни изъ библіотекъ, но при обыскахъ конфисковали. Впослѣдствіи всякое подозрѣніе съ книги было снято, и она въ полномъ составѣ вошла въ „Собраніе сочиненій" Наумова, изданное въ 1897 г.
Время, когда печатался и читался сборникъ „Сила солому ломитъ", было самое лучшее въ жизни сибирскаго беллетриста. Это было время расцвѣта его таланта, время его литературнаго успѣха; къ извѣстности въ читающей средѣ присоединилось и семейное счастье: въ это время Ник. Ив. женился.
Послѣ перваго сборника Н. И. Наумовъ издалъ другой, подъ названіемъ: „Въ тихомъ омутѣ". Затѣмъ онъ опять начать хандрить и впадать въ апатію. Какъ Антею для возстановленія силъ нужно было прикасаться къ землѣ, такъ Наумову для душевнаго возрожденія нужно было спускаться въ народъ. Его покровитель Петровъ устроилъ ему мѣсто въ Сибири, сначала въ Маріинскѣ, потомъ въ Томскѣ, но болѣзнь, которая давно, съ молоду подтачивала его организмъ и была главною причиною его минорныхъ настроеній, теперь увеличилась и не позволила писателю заниматься литературой съ прежней силой.
______________________
*) Ф. И. Усовъ, не окончивъ курса въ академіи, вернулся въ Омскъ. Впослѣдствіи это былъ одинъ изъ лучшихъ офицеровъ, отдававшій часть своего времени просвѣтительной дѣятельности. Онъ былъ однимъ изъ трехъ атамановъ сибирскаго казачьяго войска и умеръ въ этой должности въ Кокчетавѣ.
**) И. А. Худяковъ родомъ былъ тоболякъ, сначала былъ студентомъ казанскаго университета, потомъ въ Москвѣ слушалъ лекціи Буслаева, a по окончаніи курса пріѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ собирался издавать журналъ по фольклору, но рано оставилъ науку для другой дѣятельности и умеръ молодымъ въ Иркутскѣ. Если-бъ онъ не покинулъ науку, изъ него вышелъ бы замѣчательный ученый (мифологъ); уже тогда, когда мы познакомились съ нимъ, онъ удивлялъ всѣхъ необыкновенной для студента эрудиціей. Въ то время онъ жилъ одними научными интересами; всѣ деньги, которыя онъ вырабатывалъ, уходили у него на книги: какъ онъ скудно питался, я уже сказалъ. Столь же бѣдна была и его обстановка. Въ комнатѣ у него былъ всего одинъ стулъ и одинъ столъ безъ одной ножки, такъ что писать на немъ было можно, только прижавъ его къ стѣнѣ. Кромѣ того въ комнатѣ стоялъ большой сундукъ, который замѣнялъ кровать; на немъ молодой ученый аскетъ спалъ. Этотъ сундукъ былъ до крышки набитъ нѣмецкими книгами въ родѣ нѣмецкой мифологіи Гринна. Это была и кровать, и библіотека вмѣстѣ.
*****
Эскизы безъ тѣней*).
(Изъ жизни сибирскаго крестьянства).
Въ первый же мѣсяцъ по вступленіи моемъ въ должность чиновника по крестьянскимъ дѣламъ пришли ко мнѣ въ селѣ Ал...ѣ двѣ женщины, мать съ дочерью. Мать была уже старушка, дочь молодая, миловидная женщина; подъ обоими глазами дочери были огромныя синевицы, правая щека, съ сильной опухолью, была вся исцарапана. Обѣ онѣ, какъ вошли, такъ и повалились мнѣ въ ноги.
— Защити, кормилецъ! — произнесла мать, поднимаясь на ноги, и крупныя слезы потекли изъ глазъ ея, капая на концы платка, какимъ была окутана голова. —Выдали вотъ дочку замужъ, да не на радость; думали устроить ее, вздохнуть на старости, а дѣло-то вышло, погубили только ее. Грѣхъ на душу приняли. Слезами теперь исхожу, глядя на жизнь-то ея, на тиранство. Дѣло-то мое со старикомъ одинокое, сиротское. Были дѣтки-то да во младенчествѣ помирали все, только и вырастили одну дочку, опору-то на старость. Поколь старикъ-то мой въ силахъ былъ, все исшо ничего, робили, кормилецъ, по чужимъ людямъ за хлѣбомъ не ходили и скотинка у насъ есть, четыре упряжныхъ лошадки держимъ, три коровушки, овечекъ, будто, десятокъ, и домишко въ порядкѣ, все какъ слѣдъ быть по хрестьянству-то; не богатое дѣло, а все, говорю, по чужимъ людямъ не займуемся, и хлѣбца засѣвали и на свое пропитанье хватало и излишечекъ былъ, продавали. Ну только года два время, скажу тебѣ, старикъ-то мой все перепадать сталъ, нѣтъ, нѣтъ да и занеможется ему, а дѣло мое женское и тоже ужъ годы то старые, всего изнять по хозяйству-то не въ моготу, а работника нанять силы нѣть. Ея же дѣло дѣвичье, гдѣ ей супротивъ мужика хозяйствомъ орудовать? И были за нее женихи-то изъ хорошихъ семей, изъ зажиточныхъ, сватовъ засылали, да подумаемъ, подумаемъ бывало со старикомъ-то, погадаемъ это—какъ отдать ее въ чужіе люди?., мы-то при комъ останемся на старости-то своей? тогда вѣдь водицы-то испить тебѣ некому дать будетъ, подать, коли занеможется, коли на одрѣ смертномъ лежать будемъ. Ну, и поклонимся бывало за честь. Ужъ замужъ думали выдавать, такъ надоть въ домъ къ себѣ взять и хозяйство-то штобъ не рушилось и за нами-то при древности нашей призоръ бы былъ. А какой же тебѣ путный хозяинъ отъ своего добра, отъ своего дома сына въ чужой отдастъ? Суди! И приходилось ужъ подбирать жениха изъ бѣднаго достатка, сироту какого ни есть Ну, и выискался этакій, выдали! Изъ ссыльныхъ онъ, нашего же села хрестьяиннъ, въ работникахъ жилъ и сколько годовъ у степеннаго хозяина, и тотъ нахвалиться, слышь, не могъ имъ. Въ чемъ не возьми, и радѣтельный, говорить, и твердый и никакихъ шалостей, али баловства не примѣтно было за нимъ, одна будто слава, што ссыльный, такъ вѣдь и ссыльный человѣкъ же, думали мы. Иные изъ нихъ, глядико, какъ хорошо живутъ, худова слова не услышишь про нихъ. Грѣхъ-то вѣдь надъ всякимъ стрястись можетъ, не уйдешь. Ну, какъ бы, думали, но усчастливиться человѣку: изъ работника хозяиномъ сталъ. Чего говорить, не богатое дѣло наше, да коли съ умомъ, да радѣньемъ, да особливо, при молодыхъ силахъ, такъ и очень бы даже можно на ноги стать. Ну и выдали дочку то за него, свадьбу сыграли—это не плошь другихъ. Глядимъ живетъ зятекъ ничего бы ровно, радѣтельный къ дому: ни свѣтъ, ни заря, бывало,
а ужъ Абрамушко нашъ на ногахъ, на работѣ убивается и съ нами то, со стариками, изъ уваженья не выходилъ. Радовались. Съ годъ этакъ путно-то прожилъ онъ, а тутъ, толи по чьей наукѣ, толи ужъ это онъ только прилики показывалъ намъ, степенство-то напущалъ на себя. Богъ его знаетъ, темное дѣло-то, въ чужую душу не заглянешь, какъ судить будешь? Только все, говорю, приговариваться онъ зачалъ къ старику-то: „Сдѣлай де гумагу, што все хозяйство и домъ въ благословенье даемъ ему!“ Ну, старикъ-то мой съ разсудкомъ человѣкъ, изъ своей-то сотни его не выбрасывали, голосомъ его обчество не брезговало. Старикъ-то и говоритъ ему: „Ты де, Абрамъ, не дикуй, коли Богъ по душу нашу пошлетъ, такъ и домъ, и все, што въ дому-то есть, и скотинка и обзаводъ по хозяйству, и безъ гумаги твоихъ рукъ не минуетъ. Дочь-то у насъ одна, другихъ то дѣтокъ не судилъ Богъ вспоить, вскормить, стало быть, окромя тебя и вникаться въ добро- то наше некому, такъ нашто тебѣ благословленую-то гумагу?" Ну, послушать онъ будто-бы слова-то его, примолкнетъ кое время, а тамъ съизнова, слышимъ, о гумагѣ рѣчь поведетъ.
— Нашто тебѣ допрежъ время гумагу эту?— спроситъ его бывало старикъ то мой.
— Для спокойства, говоритъ, совѣсти, тятенька, потому, говоритъ, я роблю, роблю, рукъ не покладаю, а не ровенъ часъ, ты въ сердце войдешь и скажешь,—поди вонъ! Куда я тогда?..
— Глупый ты, глупый! начнетъ это, бывало, тихимъ словомъ старикъ-то мой увѣщать его, мы тебя и въ домъ-то затѣмъ приняли, дѣтище свое отдали тебѣ, штобъ хозяйство не рушилось, опору отъ тебя да призоръ бы во старости имѣть, а не затѣмъ, штобъ за твой трудъ и радѣнье изъ дому тебя гнать. Кинь ты энту блажь изъ головы—никакой тебѣ гумаги я дѣлать не стану, а помремъ со старухой, такъ и безъ гумаги все твое будетъ—владай!
— Нѣтъ, говоритъ, отецъ, такъ-то не гоже...
— Пошто-жъ?
— Сичасъ-то ты вотъ будто умомъ судишь, а почемъ, говоритъ, знать, што тебя завтра не вышибетъ изъ него: и то тебѣ будетъ не такъ, и друго не по нраву, а ты хозяинъ въ дому,— не угодишь тебѣ—ты и скажешь: поди вонъ! И иди, потому—твоя воля, ты дому хозяинъ, примѣры-то экіе, говоритъ, бывали!
— Образумься, живи въ спокоѣ, знай свое дѣло, а помыслы энти выкинь изъ головы,— старикъ-то все увѣрялъ его.
— Нѣтъ, подай гумагу!—присталъ это однова. Безъ гумаги—я чужой человѣкъ въ дому у тебя, ни въ чемъ не воленъ, роблю, роблю, а коли зерно какое занадобится продать, такъ все кь тебѣ за спросомъ иди. Я ужъ, говоритъ, не малолѣтокъ, въ разумѣ человѣкъ и самъ могу добромъ владѣть, хозяйствомъ-то орудовать... Въ упряжи то у тебя ходить-то мнѣ не пристало...
— Иѣшто тягостно?—смѣхомъ это старикъ- то спрашиватъ.
— Не въ сладость...
— Какъ же ты говоришь, што не воленъ продать, чево занадобится, а развѣ я тебѣ прекословилъ, коли ты путно чего дѣлать надумывалъ, а?—старикъ-то спрашивать. „А коли ты за спросомъ придешь, за словомъ, такъ не ужъ это тебѣ утруднительно, а?.. Ты вотъ съ годъ только поробилъ, да и тутъ ужъ свои труды считать сталъ, да и робилъ то ты не одинъ, и я, хоть черезъ силу мочи, да помогалъ тебѣ, на печи не валялся. А я то, говорить, всю жизнь свою на хозяйство-то поклалъ, всю свою силу измоталъ на него, такъ нѣшто мнѣ не бѣдно, коли ты зря-то, безъ надобности, будешь распродавывать, да хозяйствовать на свой ладъ, а?.. Умру, ну тогды и орудуй, какъ знаешь, а поколь живъ я, такъ тоже, Абрамушко, и мово слова поспрошать да послухать надо!..
— Такъ не дашь, говоритъ, гумаги?..
— Не дамъ! А ты живи лучче по Божески, въ ладу, да въ мирѣ, хозяйствуй сообча, ты еще младъ человѣкъ, не твердъ разумомъ, какъ погляжу, старика-то и послухай, жизнь то моя ужъ коротка, а твоя то, можетъ, длинна, доброе то слово иной часъ и погодится тебѣ,— увѣщалъ это старикъ-то его. Ну, чего тебѣ недостаетъ, скажи?
— Воли, говоритъ!
— А нѣшто ты привязанъ, нѣшто кто отнимаетъ ее у тебя, а?..
— И не привязанъ, да въ путахъ, говоритъ, хожу.
— Въ какихъ?.. Кто тебя опутывалъ?..
— Ты, говоритъ.
— Чѣмъ я тебя путалъ, скажи?—допытывать старикъ-то сталъ. Въ чемъ ты нужу терпѣлъ, а?.. Ты вотъ въ работникахъ жилъ, изъ чужихъ рукъ глядѣлъ, всегда подъ чужимъ глазомъ да указомъ ходилъ, такъ неужъ тогды у тебя больше воли-то было, путъ то не было, чѣмъ теперь, когды ты почесть полный хозяинъ въ дому, а?.. Глупый ты, глупый, чего тебѣ надоть, и самъ не знаешь; и обшили тебя, и обмыли, за кускомъ ты въ чужіе люди не идешь, слава Богу, свой есть, припасено, чѣмъ ты исшо не доволенъ? Или у тебя норка-то свиститъ—гумагу-то взять, да потомъ размотать все, чего мы наживали, самому-то куда ни на есть уйти, а насъ по міру на старости пустить? Нѣтъ, Абрамушко, поколь я живъ, энтаго не будетъ: зря мотать добра своего не дамъ, а живи ты лучче безъ зазору. Чужихъ-то наукъ не слушай. Чего сробишь, такъ на себя же вѣдь сро- бишь, тебѣ же все останется.
Ну, послѣ этихъ словъ не сталъ онъ болѣ съ гумагой приставать, унялся... Только, видимъ, измѣнился нашъ Абрамушко, гдѣ бы ро- бить надоть, по хозяйству чего править, а ему и думушки мало. Сидитъ себѣ на завалинкѣ, въ трубку попыхиваетъ, да поплевываетъ, аль уйдетъ куды, гдѣ шатается, зачѣмъ—и Богъ вѣсть. Глядѣлъ, глядѣлъ это старикъ то мой, все было молчалъ, полагалъ, што уходится въ немъ дурь-то энта. Ну, не вытерпѣлъ, взнутрило его; „ты што же энто, Абрамъ, дому то рѣшился?"—спросилъ оръ однова.
— А чего, говоритъ, мнѣ въ дому то дѣлать?
— Какъ чего, нѣшто ужъ дѣла въ дому не стало, не къ чему рукъ приложить, а?..
— Видать, што не къ чему. У тебя вѣдь свой, говоритъ, хозяйскій глазъ есть да воля, и орудуй, какъ знаешь, правь, што спорухалось...
— А ты батракъ нѣшто?..
— Хуже!.. Батракъ-то какое ни есть награжденье получатъ, а ты чего мнѣ даешь?—говоритъ. Гривна-то на табакъ занадобится, такъ и то съ поклономъ да со спросомъ иди къ тебѣ.
— Ну, парень, рано-же ты совѣсть-то потерялъ,—старикъ-то сказалъ ему... рано...
— Ужъ чего потеряно—не найдешь, —Аб- рамъ-то отвѣтъ держитъ,—а новой наживать не доводится,—говоритъ. Кто про совѣсть-то вспоминать, такъ, можетъ, по ранѣ меня исшо по вѣтру размотала, ее,—да плюнулъ это и ушолъ...
(Окончаніе будетъ).
*) Изъ ненапечатанныхъ рассказовъ покойнаго Н. И. Наумова
*****
Къ рисункамъ.
Мы имѣли возможность видѣть рукописи Н. И. Наумова. Какъ видно изъ нихъ, онъ тщательно обрабатывалъ свои произведенія, по нѣсколько разъ измѣняя, дополняя, выбрасывая написанное или создавая совершенно новый текстъ. Очевидно писатель очень строго и требовательно относился къ своей работѣ. Потому и неудивительно, что несмотря на продолжительный періодъ литературной дѣятельности, онъ сравнительно не много написалъ и напечаталъ. Напечатанное въ этомъ № факсимиле Наумова характеризуетъ его большую требовательность въ отношеніи своихъ литературныхъ работъ.
*****
Отъ редакціи.
Г. Равичъ-Щербо въ письмѣ изъ Омска на имя редакціи указываетъ на невѣрность, допущенную въ статьѣ „Театръ въ Иркутскѣ", помѣщенной въ XX приложеніи къ „Сибирской Жизни", a именно: въ этой статьи сказано, что постройка иркутскаго театра обошлась въ 170.000 рубл. Это, оказывается, не вѣрно; г. Равичъ-Щербо. бывшій членомъ театральной дирекціи съ начала постройки во конца, сообщаетъ, что постройка иркутскаго театра стояла но 170 т., а 808 тысячъ. Приносимъ г-ну Равичъ-Щербо благодарность за эту поправку.
Двухслойный pdf (текст под картинками)
https://yadi.sk/i/RQ5j7c0HrGYPd
pdf без маски (текст и картинки)
https://yadi.sk/i/yIBoaAsVrGYVX
Двухслойный pdf (текст поверх картинок)
https://yadi.sk/i/yNPHDOsMrGYTb
Показать спойлер
Потрясающе. Тащить на себе пол-года пол-центнера песка из Томска в Питер.
"О необыкновенномъ путешествіи семьи переселенцевъ Истратенко мы уже сообщали въ №(25б „Сиб. Жизни", теперь же напоминаемъ читателямъ лишь главныя подробности.
7 лѣтъ тому назадъ крестьянская семья изъ Калужской губ , состоящая изъ Димитрія Истратенко, его жены, сына, двухъ дочерей я внучки, пересеслалилась въ Сибирь, въ Томскую губ. Послѣ цѣлаго ряда мытарствъ и бѣдствій, семья эта наткнулась невдалекѣ отъ Каинска на золото. Было рѣшено взять сколько возможно золотой руды, доставить её на монетный дворъ, а на вырученныя деньги снова устроиться на родинѣ въ Калужской губ. Началось безпримѣрное путешествіе: молодой парень и двѣ молодыхъ женщины впряглись въ тачку, нагруженную 3 пудами золотой руды и зашагали по направленію къ Петербургу. Сзади тачки шагали 70-лѣтній глава семьи, его жена и 6-лѣтияя внучка. Кормились дорогой необыкновенные путешественники Христовымъ именемъ. Двинулись Истратенки въ путь 23 апрѣля, а въ Петербургъ пришли 5-го ноября. Такимъ образомъ они пробыли въ дорогѣ около 61/2 мѣсяцевъ и прошли за это время около 5,000 верстъ.
Результатъ столь необыкновеннаго путешествія оказался очень печальнымъ: по изслѣдованія руды на монетномъ дворѣ было установлено, что на руки многострадальной семьѣ за привезенное ею золото слѣдуетъ всего-навсего 20 рублей!"(с)
Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №271
за Воскресенье, 14-го декабря 1903 года.
в номере:
"О необыкновенномъ путешествіи семьи переселенцевъ Истратенко мы уже сообщали въ №(25б „Сиб. Жизни", теперь же напоминаемъ читателямъ лишь главныя подробности.
7 лѣтъ тому назадъ крестьянская семья изъ Калужской губ , состоящая изъ Димитрія Истратенко, его жены, сына, двухъ дочерей я внучки, пересеслалилась въ Сибирь, въ Томскую губ. Послѣ цѣлаго ряда мытарствъ и бѣдствій, семья эта наткнулась невдалекѣ отъ Каинска на золото. Было рѣшено взять сколько возможно золотой руды, доставить её на монетный дворъ, а на вырученныя деньги снова устроиться на родинѣ въ Калужской губ. Началось безпримѣрное путешествіе: молодой парень и двѣ молодыхъ женщины впряглись въ тачку, нагруженную 3 пудами золотой руды и зашагали по направленію къ Петербургу. Сзади тачки шагали 70-лѣтній глава семьи, его жена и 6-лѣтияя внучка. Кормились дорогой необыкновенные путешественники Христовымъ именемъ. Двинулись Истратенки въ путь 23 апрѣля, а въ Петербургъ пришли 5-го ноября. Такимъ образомъ они пробыли въ дорогѣ около 61/2 мѣсяцевъ и прошли за это время около 5,000 верстъ.
Результатъ столь необыкновеннаго путешествія оказался очень печальнымъ: по изслѣдованія руды на монетномъ дворѣ было установлено, что на руки многострадальной семьѣ за привезенное ею золото слѣдуетъ всего-навсего 20 рублей!"(с)
Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №271
за Воскресенье, 14-го декабря 1903 года.
в номере:
Показать спойлер
В. Сапожниковъ "Въ Усинскій Край"
1. Отъ Красноярска до Минусинска.
Послѣ Оби съ ея однообразно низменными берегами, гдѣ среди безконечныхъ тальниковъ на протяженіи нѣсколькихъ дней пути ни одинъ пригорокъ не веселитъ утомленнаго монотонностью взора, Енисей поражаетъ путника богатымъ разнообразіемъ контуровъ и красокъ своихъ береговъ и подвижной мощью стремительнаго потока. Едва вы оставили Красноярскъ, направляясь на югъ, какъ вступаете въ скалистыя тѣснины, оригинальная красота которыхъ надолго удерживаетъ васъ на палубѣ парохода. По сибирскому выраженію, здѣсь рѣка идетъ „въ щекахъ" или „въ трубѣ". Впереди узкое русло извивается между крутыми синѣющими гривами, которыя, подходя къ рѣкѣ, то обрываются сплошными утесами, то выступаютъ впередъ крутыми быками. Первымъ выступаетъ на правомъ берегу верстахъ въ 17 отъ Красноярска—
Шалунинскій быкъ (рис. 1); упираясь въ него, быстрое теченіе, достигающее 8 верстъ въ часъ, круто поворачиваетъ въ рѣку и образуетъ водовороты. Нѣсколько дальше на лѣвомъ берегу обособились отъ общей стѣны нѣсколько живописныхъ утесовъ подъ названіемъ Овсянкина быка (рис. 2). Еще выше въ 25 верстахъ отъ Красноярска на правомъ берегу вырисовывается нѣсколькими уступами Манскій быкъ, обозначающій впаденіе крупнаго притока Енисея—Маны, длина которой опредѣляется приблизительно въ 700 верстъ. Начинаясь въ высокихъ отрогахъ Саянскаго хребта,
Мана протекаетъ по глухой, мало доступной тайгѣ и еще очень мало изслѣдована. Болѣе или менѣе глубоко въ ея дебри проникаетъ промысловый охотникъ, золотоискатель, дровосѣкъ, да изрѣдка пытливый натуралистъ. Говорятъ, большая часть звѣря, дичи, шкуръ и лѣсу на Красноярскій рынокъ поступаетъ именно съ Маны. Въ ея лѣсныхъ дебряхъ водятся соболь, медвѣдь, бѣлка, сымъ (маралъ), косуля, кабарга и др. звѣри.
Лось чаще попадается на противоположной, западной сторонѣ Енисея. Выше устья Маны горы праваго берега отошли немного въ сторону, давъ мѣсто покатой къ рѣкѣ лѣсистой низинѣ, гдѣ изъ-за высокихъ деревьевъ живописно выглядываютъ церковь и постройки монастырскаго скита (рис. 3). Такія прибрежныя низины на Енисеѣ носятъ названіе „плотбища". Слѣдующее плотбище съ селеніемъ прислонилось къ горамъ лѣваго берега, ниже рѣчки Бирюсы, устье которой обозначено высокими обрывистыми скалами съ цѣлымъ рядомъ пещеръ, хорошо видныхъ съ парохода. Присутствіе пещеръ ясно говоритъ объ известковой природѣ Енисейскихъ скалъ; дѣйствительно, въ этой части Енисея известняки достигаютъ значительнаго развитія, только на правомъ берегу мѣстами смѣняясь гранитами. Ночью на многихъ мѣстахъ лѣваго берега можно любоваться на яркое пламя известковыхъ обжигательныхъ печей.
Выше Бирюсы плотбища на долго пропадаютъ, и одинаково съ обѣихъ сторонъ подступаютъ скалистые утесы или крутыя пади съ узкими оврагами. Прибрежные утесы то обнажены, то покрыты не старымъ лѣсомъ березъ и сосенъ, между которыми тамъ, гдѣ позволяетъ уклонъ, ярко зеленѣютъ сочныя полянки. Въ началѣ лѣта онѣ расцвѣчены желтыми лиліями (Hemerocallis Flava) и ярко-красной саранкой (Lilium tenuifolium), не свойственной Западной Сибири; изъ высокой травы едва выглядываютъ знакомые намъ башмачки (Cypripedium macranthon, calceolus и guttatum) и другія орхидеи (Orchis, Gymnadenia, Platanthera), что придаетъ особенную прелесть прихотливому узорчатому берегу.
Изрѣдка на ничтожныхъ прибрежныхъ площадкахъ появляются и слѣды человѣка въ видѣ одинокихъ заимокъ или пріисковыхъ избушекъ, но селеній нѣтъ до Бахтинскаго плотбища, широко раскинувшагося на лѣвомъ берегу въ 85 верстахъ отъ Красноярска.
Немногія селенія тѣсной части Енисея не имѣютъ иного сообщенія съ Красноярскомъ, кромѣ рѣки, лѣтомъ на лодкахъ, зимой на саняхъ, такъ какъ непрерывной береговой полосы не существуетъ, а сложная конфигурація, хотя и невысокихъ, но крутыхъ горныхъ хребтовъ не даетъ возможности проложить сколько нибудь удобной дороги; даже почтовый трактъ изъ Минусинска на Красноярскъ проведенъ, минуя горы, на Ачинскъ.
Еще часа два ѣзды отъ Бахтинскаго, и мѣстность рѣзко измѣняется. Близъ селенія Езагашъ горы постепенно отступаютъ отъ Енисея и горизонтъ дѣлается болѣе открытымъ; рѣка разбита на протоки зеленѣющими островами; лѣсъ почти исчезаетъ, и мѣстность пріобрѣтаетъ степной характеръ. Однако это не та степь, которую мы видимъ на пути изъ Омска въ Семипалатинскъ, гдѣ ничѣмъ не нарушаемая равнина разстилается до горизонта. По Енисейской степи прошло сильное волненіе и осталось въ видѣ пологихъ хребтовъ и уваловъ, и эти неподвижныя волны, разсѣченныя Енисеемъ, выходятъ къ рѣкѣ какъ бы отдѣльными возвышенностями, которыя и обрываются здѣсь обыкновенноотвѣсными стѣнами, обнаруживая совсѣмъ иное геологическое сложеніе (рис. 4). На естественныхъ профиляхъ совершенно ясно видно согласное параллельное расположеніе осадочныхъ слоевъ; здѣсь преобладаютъ красные песчаники въ прослойку съ желтыми, бѣловатыми и зеленоватыми пластами. Но что особенно интересно, это—правильная смѣна направленія слоевъ. Вскорѣ за Езагашемъ, около села Сисимъ, слои песчаниковъ падаютъ вамъ по пути, а черезъ 10 верстъ, противъ села Убей, они начинаютъ подниматься; ближе къ селу Новоселову новое паденіе, за которымъ слѣдуетъ опять подъемъ. Особенно поучительна стѣна праваго берега Енисея немного выше Новоселовой, гдѣ на вашихъ глазахъ падающіе слои постепенно переходятъ въ горизонтальное положеніе и сейчасъ же начинаютъ опять подниматься, но скоро прерываются обширной низиной противъ деревни Яновой. Здѣсь мы видимъ, слѣдовательно, нижній горизонтъ складки (или синклинальную складку).
Общее направленіе складокъ съ сѣверо-востока на юго-западъ; всего ихъ насчитывается отъ Сисима до устья Тубы (правый протокъ) семь, при чемъ онѣ неравновелики по длинѣ; однѣ протянулись на нѣсколько десятковъ верстъ, другія измѣряются нѣсколькими верстами, такъ напр. на небольшемъ протяженіи между селеніями Тесь и Батени можно ясно видѣть четыре короткихъ складки.
Выше Батеней по направленію къ Минусинску начинаютъ преобладать открытыя степныя пространства, но тѣмъ явственнѣе выступаютъ складки, нерѣдко образуя красивые утесы, каковы Туранъ (рис. 5), Оюкъ, Тибсей и Каскаръ на правомъ берегу, Оглахты, Куня и Самохвалъ на лѣвомъ. Высоко выдаваясь надъ степными пространствами, они являются маяками, видными одинъ отъ другого непрерывной цѣпью, что даетъ возможность легко оріентироваться въ направленіи долины Енисея.
Въ степной части Енисея только однажды осадочные пласты прорываются кристаллической породой, именно—порфиромъ, изъ котораго состоитъ высокій обрывистый Батеневскій утесъ вплоть у пароходной пристани.
Чтобы лучше оцѣнить характеръ При- енисейской степи, полезно сдѣлать небольшую экскурсію в сторону отъ Енисея, напр. къ знаменитому озеру Шира, лежащему въ 55 вер. отъ села Батени.
Удаляясь отъ берега рѣки, вы попадаете въ обширную волнистую страну, состоящую изъ непрерывной системы пологихъ складокъ и уваловъ съ котловинами между ними. Крупнозернистая плотная почва, не образующая грязи даже въ сильное ненастье, покрыта степной растительностью сѣроватаго колорита съ преобладаніемъ полыней и злаковъ. На болѣе низкихъ мѣстахъ зеленѣютъ обширныя заросли пикульника (Iris biglumis) съ прочными корневищами, торчащими надъ поверхностностью земли. Между степными травами обильно бѣлѣетъ знаменитый эдельвейсъ (Leontopodium alpinum), въ Альпахъ растущій только на значительныхъ высотахъ. По степи разбросаны громадные курганы, обложенные рядомъ крупныхъ камней,—нѣмые свидѣтели минувшей и навсегда исчезнувшей культуры. Котловины между увалами часто заполнены солеными или прѣсными озерами; самое большое между солеными озерами и будетъ Шира, на берегу котораго раскинулся лѣчебной курортъ (рис. 6). Берега озера, кое гдѣ украшенные жалкими остатками исчезающихъ берёзъ и лиственницъ, на обрывахъ обнаруживаютъ то-же сложеніе изъ красныхъ песчаниковъ и мергелей, что и берега Енисея. Въ 4 верстахъ отъ Шира за невысокимъ уваломъ синѣетъ прѣсное озеро Иткуль, интересное въ томъ отношеніи, что его плоскій сѣв. восточный берегъ сложенъ изъ песчаниковъ, а юго-западный высокій образуетъ гранитную возвышенность, отчасти покрытую лѣсомъ лиственницъ и сочными полянами. Здѣсь довольно обильно встрѣчается другое высокогорное растеніе—желтый альпійскій макъ (Рараvеr аlріnum), не смотря на небольшую высоту мѣстности (около 500 метровъ надъ ур. моря).
Выходы на поверхность земли такихъ кристаллическихъ породъ, какъ граниты Иткуля или порфиры около Батеней, представляютъ въ Приенисейскихъ волнистыхъ степяхъ большую рѣдкость; все остальное пространство покрыто упомянутыми выше осадочными напластованіями, состоящими изъ песчаниковъ, мергелей и глинъ, лежащихъ на известнякахъ. Изслѣдованіе найденныхъ въ нихъ окаменѣлостей позволяетъ съ большой опредѣленностью причислить ихъ къ девонскому возрасту, предшествовавшему каменноугольной эпохѣ. Такія же напластованія находятся и на восточномъ склонѣ Урала, на основаніи чего полагаютъ, что осадочныя образованія приенисейскихъ степей отложены Изъ одного общаго морскаго бассейна, покрывавшаго Сибирь отъ Урала до подошвы Саянскаго хребта. Обсохшіе осадочные пласты подверглись боковому давленію, вслѣдствіе чего они изъ первоначальнаго горизонтальнаго положенія пришли въ состояніе складочное, какъ это мы видѣли по берегу Енисея. Весьма возможно, что тектоническіе процессы, обусловившіе образованіе складокъ, еще не успокоились, о чемъ свидѣтельствуютъ изрѣдка повторяющіеся подземные толчки въ интересующемъ насъ районѣ, а складки продолжаютъ формироваться и по настоящѣе время.
Образовавшіяся такимъ путемъ тектоническія складки подверглись новому воздѣйствію процессовъ эрозіи, т. е. размывающему дѣйствію наземныхъ водъ, скопляющихся изъ осадковъ. Протекая по склонамъ уваловъ и по логамъ, снѣговыя и дождевыя воды размываютъ образовавшіяся прежде складки, сносятъ песокъ и глину въ низины, заполненныя озерами, и такимъ образомъ нивелируя холмистую мѣстность, отлагаютъ новые,
современные намъ осадки, какъ бы имѣя цѣлью уничтожить всѣ возвышенія и создать ровную безбрежную степь.
Поразительнѣе всего сказываются процессы размыванія на утесахъ по берегу Енисея. Вертикальныя стѣны утесовъ противъ Новоселовой и особенно около дер. Тесь, достигающія высоты 40—50 саженъ, прорѣзаны глубокими вертикальными трещинами, которыя отдѣляютъ отъ стѣны цѣлую систему столбовъ. Енисей изъ года въ годъ понемногу подтачиваетъ ихъ основаніе, наконецъ, столбы не выдерживаютъ собственной тяжести и съ грохотомъ обрушиваются къ подножію стѣны и въ Енисей, создавая громадную волну, которой боятся пароходы*). Кое-гдѣ подъ стѣной видны кучи крупнаго и мелкаго щебня, какъ результатъ подобныхъ обваловъ; на нѣкоторыхъ кучахъ уже успѣли вырасти высокіе тополя и кустарники; на другихъ, болѣе свѣжихъ, еще не выросло ничего; такимъ кучамъ недавнихъ обваловъ на стѣнѣ соотвѣтствуютъ болѣе темныя вертикальныя пятна. Подъ утесами Оглахты тянется вдоль урѣза рѣки цѣлая грядка щебня, также поросшая линіей ярко-зеленѣющихъ тополей. Болѣе мелкій матеріалъ отъ обвалившихся утесовъ подхватывается быстрымъ теченіемъ рѣки, окончательно перемалывается и уносится дальше, гдѣ и отлагается въ видѣ мелей и острововъ.
Уже бѣглый осмотръ береговъ Енисея показываетъ, какія поучительныя картины пробѣгаютъ передъ глазами, и можно съ увѣренностью сказать, что здѣсь мы имѣемъ весьма благодарный матеріалъ для образовательныхъ поѣздокъ, и большихъ, и малыхъ. Если къ этому прибавить прелесть лѣтней поѣздки на довольно удобныхъ пароходахъ, то желаніе посовѣтовать эту поѣздку каждому напрашивается само собой.
Послѣ 2—3 дневного плаванія пароходъ, огибая послѣдній утесъ у деревни Быстрой, поворачиваетъ въ Тихую протоку Енисея и черезъ полчаса пристаетъ къ Минусинску. Объ этомъ маленькомъ, невзрачномъ городкѣ нельзя сказать, какъ о большей части маленькихъ россійскихъ городковъ, что онъ „ничѣмъ особеннымъ не замѣчателенъ". Нѣтъ, онъ весьма замѣчателенъ своимъ музеемъ Минусинскаго края и имѣетъ свою знаменитость—создателя музея H. М. Мартьянова, около котораго вмѣстѣ съ музеемъ группируются немногія интеллигентныя силы города.
(Продолженіе будетъ).
*) Кажется, въ 70 годахъ громадной волной, образовавшейся отъ подобнаго обвала на Иртышѣ близъ Сахарова,выкинуло на противоположный берегъ большую шхуну, гдѣ она и обсохла.
*****
Эскизы безъ тѣней*)
(Изъ жизни сибирскою крестьянства).
(Окончаніе,—см. N 265).
Взвыли мы только, горькими взвыли, што загубили свое дѣтище, связали ее навѣкъ по рукамъ, по ногамъ съ непутевымъ человѣкомъ; ну, да сколь не плачь, слезами ужъ горю не пособишь, чего сдѣлано, не передѣлаешь. Ну. ждемъ, авось, думаемъ, образумится, придетъ иешо: ждемъ это день—нѣту, другой и третій— нѣтъ Абрама. Старикъ-то хотѣлъ ужъ было къ старостѣ съ объявкой идти, думалъ ужъ не доспѣлось-ли съ нимъ чего. Только слышимъ, Абрамушко нашъ въ работники нанялся въ деревню къ хрестьянину,—звать-то Спиридономъ, только ужъ чей пишется-то не въ память, не спрашивай, женское дѣло-то... Руками только всплеснули мы, услыхавши это. Гдѣ и умъ у человѣка. Полюбилась неволя слаще воли, домухозяйство на батрачество смѣнилъ. Схватился старикъ-то мой за голову, да такъ, слышь, и упалъ на лавку—вотъ тебѣ и призоръ и опора въ старости! Погоревали, погоревали это мы, только старикъ-то и говоритъ: „Опомнится исшо, прилики это онъ строитъ, устрашать хочетъ, што вотъ-де поживите-ка безъ меня на старости, поорудуйте хозяйствомъ, хватитъ-ли силъ- то, волей да неволей, какъ хворь-то изниметъ да рушиться все пойдетъ, такъ сдѣлаете по моему, дадите гумагу мнѣ“! Ну, горько-ли, сладко-ли, живемъ, нечего дѣлать-то! Не прошло, скажу тебѣ, и двухъ недѣль, шлетъ намъ вѣсть Абрамъ, што занемогъ-де, убился: поѣхалъ по сѣно въ поле да вишь со стогу какъ-то его шатнуло, упалъ и бокомъ-то на колъ у остожья угодилъ, едва живой ужъ до дому-то доѣхалъ, такъ пущай-де жена навѣдать пріѣдетъ. Ну, старикъ-то мой и, говоритъ, вотъ ей, дочкѣ то: „Поѣзжай Лукерья, навѣдай! какой ни есть да все мужъ, законъ приняла съ нимъ“.. Ну, Луша-то и поѣхала къ нему—уѣхала да и уѣхала, ждемъ, ждемъ и вѣсти нѣтъ. Господи, што молъ тамъ творится, ужъ живъ-ли онъ, думамъ Съ перелоги энтой, съ думы то, старикъ-то вижу, въ сокрушенье впалъ: обхватитъ это, бывало, голову руками, сидитъ, и словно, слышь, не видитъ и не слышитъ ничего. Скорбѣлъ это сердцемъ-то: не чужое вѣдь дѣтище- то, свое, ну и занемогъ. Престарѣлые ужъ годы-то, труда-то и увѣчья-то не мало на вѣку принялъ: два раза вѣдь съ мельницы падалъ, кормилецъ, грудью расшибался, безъ дыханія почесть поднимали,—съ тѣхъ-то поръ и сталъ все здоровьемъ скучать, перемогаться. Ну, какъ занемогъ онъ, я и рѣшила: дай молъ съѣзжу, сама провѣдаю. Попросила по сусѣдству старушку одну наблюсти безъ меня за старикомъ-то и домашностью и поѣхала. А онъ, слышь, Абрамъ-то, зятекъ-то вызвалъ жену-то къ себѣ и не пущалъ ее домой-то. Коли, говоритъ, я въ батракахъ живу, такъ и ты иди въ услуженье въ постратки, а въ дому у родителевъ, штобъ житья твоего не было". Это отъ дому-то своего, отъ хозяйства-то, отъ родителевъ-то въ постратки идти! Есть-ли умъ у человѣка? спрошу тебя. Суди! Пріѣхала я въ Ш—ву- то къ хозяину-то его въ домъ, и вижу, заливается Лукерья-то моя горькими, сердце-то болитъ объ насъ, а ослухаться- то не смѣетъ, изъ воли-то его выдти, потому—онъ одно твердитъ: коли не повинишься, убью! Нитка-де за иглой идетъ, а не игла за ниткой. Ну, чего-же? стала я ему говорить: отпусти-де дочь къ намъ и родитель-то на смертномъ одрѣ почесть лежитъ и мое дѣло немочное,—неужъ помирать-то будемъ, такъ чужіе люди придутъ глаза-то закрыть намъ, образумься! Не грѣши говорю, ну тутъ и хозяинъ-то его сталъ говорить ему, што самъ-де ты, какъ хошь дѣлай, а отнимать волю у дочери призрѣвать родителевъ не можешь. Ну, послухалъ онъ хозяйскаго-то слова, отпустилъ ее къ намъ. Привезла я ее домой, живемъ... Только однова это къ вечеру, никакъ черезъ недѣлю время-то—глядимъ, подъѣхалъ къ воротамъ Абрамъ въ разваленкахъ: съ нимъ исшо какой-то молодецъ, ужъ не скажу чей будетъ, не знаю. Ну, вошелъ это Абрамъ-то въ избу къ намъ степенно такъ, посидѣлъ почесть съ часъ время, поговорилъ и все бы ладно такъ, ровно бы, полагать надо, въ умъ человѣкъ входитъ: пріѣхалъ провѣдать, говоритъ, ну и по женѣ заскучалъ. Старикъ-то мой ласково столъ обошелся съ нимъ и ночевать его было оставлялъ, а на утро и уѣдешь, говоритъ. Ну, не остался: потому, говоритъ, уѣхалъ-то, не сказавшись хозяину. Ну, простились чинъ чиномъ, и пошелъ онъ изъ избы. Старикъ-то исшо и промолвилъ ему; навѣшай, говоритъ, почаще, не чужіе вѣдь будемъ! А Луша-то это накинулась, скажу тебѣ, азямомъ и пошла проводить егоза ворота. Только, слышу, вскрикнула она благимъ это матомъ; кинулась я къ окошку-то, глянула— такъ индѣ сердце-то у меня такъ вотъ и замерло, родимый. Бросили они ее, Лушу-то, въ розваленки и поскакали. Я-то хочу это изъ избы за ворота выбѣжать и не могу, не могу это съ ноженьками-то сладить—отнялись. Ну, кое-то какъ это, черезъ силу мочи, выползла я изъ избы-то за ворота, крикнула "д-е-ржи"! да гдѣ тебѣ, время ночное, на улицѣ то хоть- бы ж адная душа была, а они ужъ, гляжу, у околицы скачутъ, да дорогой-то, погляди-ко, батюшка, чего съ ней дѣяли,—произнесла она утирая слезы. „Обскажи, Луша, его милости, какъ тиранили-то тебя"!—обратилась она къ дочери.
— Стегали, почти шопотомъ произнесла Луша, стыдливо понуря голову...
— Ты не бойся, Луша, обскажи все какъ было, чего бояться-то. Пужлива она, батюшка, ужъ не обезсудь, произнесла старуха, обратившись ко мнѣ. Молодое дѣло-то, съ начальствомъ-то не приводилось исшо разговаривать, ну и нѣту будто словъ-то!.. Чего вѣдь дѣяли-то съ ней батюшко! Осподи, говорю, какъ повалили ее въ розвальни то, она извѣстно, стала биться, наровила вырваться отъ нихъ, соскочить съ дровенъ-то, а муженекъ-то энто сорвалъ съ нея азямъ-то, юбку, оставилъ въ одной рубахѣ. Это зимой-то, кормилецъ? Да привязалъ, слышь, голову-то ей косами-то волосъ къ ободу дровенъ; глядико, какія плѣшины-то выдрали на головѣ — ужасть! руки-то тоже обмотали ей опояской да привязали къ дровнямъ, да и давай, говоритъ, возжами стегать почему ни попало. Не убой-ли ото, родимый?—да всю то дороженьку, это девять-то верстъ, ее нагую везли, сердешную, да и тиранили. Вѣдь на тѣло-то ей поглядѣть, такъ ужасть!... ужасть, говорю, возьметъ, сердце кровью обольется. . живаго-то мѣста не найдешь, все избито да изсѣчено, все рубцы, да синія полосы, што ись грудь-то и та изстегана. Глядико, какъ щеку-то изодрала, бившись голо- вой-то объ ободъ дровенъ. Такъ ужъ. говорить, и не помню, какъ привезли-то меня, выбили изъ памяти-то. Ну, вотъ, какъ увезъ это онъ, скажу тебѣ, старикъ-то и велѣлъ мнѣ къ старостѣ сбѣгать за помочью. Пришла это я къ старостѣ, такъ и такъ говорю, Ефимъ Денисычъ, земно поклонилась ему, съѣзди со мной, говорю, обворотить дочь; боюсь, говорю, кабы не доспѣли чего съ ней,— плачу это, горькими плачу. Ну, послушалъ онъ меня, дай Богъ ему здоровья.
„Ужъ и не досужно, говорить, да сбѣгамъ, а то опосля пожалуй исшо въ отвѣтъ-бы не попасть! Ну, поѣхали. Пріѣзжаемъ это въ Ш—ву, онъ къ старость ихнему кинулся, тотъ народу съ собой человѣкъ съ десятокъ присогласилъ. Поѣхали къ избѣ Спиридона, Абрамова-то хозяина. Пошли во дворъ-то, глядимъ, Абрамъ-то лошадь изъ дровенъ выпрягаетъ, вся-то въ мылѣ. Спиридона-то самого дома нѣту. Глянули, а Луша-то лежитъ въ дровняхъ, армякомъ прикрыта, косы-то ужъ отвязаны, раскосмачены это. Хозяйка-то Спиридона фонари вынесла. Оглядѣли кикъ ее,
Лушу-то. такъ индѣ мужики-то ахнули.
— Ты что-жъ это съ бабой-то сдѣлалъ? — нашъ-то староста спросилъ Абрама.
— Уму, говорить, училъ.
— Нѣшто ты воленъ такь уму учить, убивать человѣка.
— Стало быть, воленъ, говоритъ, коли обучилъ,—съ грубостью это такою Абрамъ-то отвѣть даетъ. — Мужъ жену училъ, никому, говоритъ, дѣла нѣтъ, препятствовать, говорить, никто не долженъ, на то и законъ она со мной приняла, а коли учу, говоритъ, такъ стало быть знаю, за што обучаю.
— Да вѣдь ты убилъ ее почесть,—заговорили мужики-то.
— Отдышется. На предки ужъ изъ воли моей выходить не станетъ, не станетъ отъ мужа отъѣзжать: памятно, говорить будетъ, станетъ и мужа почитать,— съ усмѣшкой это отвѣчаетъ имъ.
— Ну, туть старосты, дай имъ Богъ здоровья, и нашъ-то, и Ш—ій-то писаря призвали, написали это гумагу, печати приклали и сичасъ-же это скрутили Абраму руки и въ
волость. Онъ исшо было и на старостовъ- то с полѣномъ бросился, ну да они его, дай имъ Господи здоровья, такъ его полѣньями поучили,
што онъ вы-ы-ы-ылъ... вы-ылъ... какъ песъ какой и дотоль они... его и мужики-то, это полѣньями-то учили, поколь ужъ онъ голосу не рѣшился и не замеръ. А ее-то голубушку, это Лушу-то, какъ подняли съ дровенъ-то, такъ, вѣришь, милостивецъ, едва до избы-то довели... такъ ее словно вотъ вѣтромъ и качаетъ изъ стороны въ сторону, ноженьки-то отнялись, избита вся. Положили ее въ избѣ-то на лавку. Упала я на нее и столь-то это тошнехонько стало мнѣ, што загубили дѣтище, выла, выла надъ ней сердешной, да и не помню, какъ домой-то ее свезли, не въ памяти ровно и сама-то была!.. Заступись, кормилецъ, заступись, родимый,—рыдая произнесла она, палая въ ноги — Гумагу-то, сказываютъ, изъ волости къ земскому засѣдателю услали, слѣдствіе вишь будетъ.
— А гдѣ-же Абрамъ теперь?... спросилъ я — Въ волости содержатъ его, въ арестантской, до слѣдствія будто. Ну, што какъ его выпустятъ!.. убьетъ онь Лушу-то, не жить ей на бѣломъ свѣтѣ, не жить. Дай кормилецъ гумагу, штобъ подъ призоръ опчества, да старостѣ препоручить Лушу-то, оглянись на слезы-то наши.. А-ахъ Господи... Осподи... загубили дѣтище свое, загубили! обливаясь слезами говорила она На наши души со старикомъ взяли грѣхъ. Ну, да вѣдали-ли...
Чѣмъ кончилось слѣдствіе и дѣло, мнѣ неизвѣстно. Знаю только, что Абрамъ былъ вскорѣ выпущенъ изъ подъ ареста и ушелъ на пріиски.
*****
Петръ Гусаренко "Верхотурскій 1-й гильдіи купецъ, Коммерціи Совѣтникъ и кавалеръ Ѳедотъ Ивановичъ Поповъ"
Скоро забылъ Томскъ имя одного изъ своихъ благодѣтелей, самаго виднаго, который, по удачному выраженію г. Г. П. въ его статьѣ: „На зарѣ золотопромышленности въ Томской тийгѣ“ („Сиб. Ж.“, прил. къ № 249 16 нояб. 1903 г.), открылъ „золотое дно". Мы дѣлаемъ упрекъ не маститому журналисту за вкравшіяся въ его статью существенныя ошибки, а обществу, которое дало ничтожный и малодоброкачественный матеріалъ. Литераторъ съ своей стороны сдѣлалъ все: онъ остановилъ общественное вниманіе вниманіе
на крупномъ мѣстномъ историческомъ событіи, преподалъ совѣтъ какъ слѣдуетъ чтить истиннаго героя, сравнивъ его съ Ермакомъ, и показалъ рядомъ типы болѣе мелкіе, какъ напримѣръ, Ф. А. Гороховъ—въ 1832 г. еще только Каинскій городничій, а въ 1840 г. уже Томскій губернскій прокуроръ и мѣстный „герцогъ". Мы вполнѣ убѣждены, что Сибирскій Общественный Банкъ, а также и Томская женская гимназія не отказали бы автору г. Г. П. въ предоставленіи необходимыхъ матеріаловъ по заинтересовавшему его вопросу. Основной документъ для ознакомленія съ началомъ мѣстной золотопромышленности —это „Духовное завѣщаніе Коммерціи Совѣтника и кавалера Андрея Яковлевича Попова, служащее основаніемъ золотопромышленной компаніи наслѣдниковъ Гг. Коммерціи Совѣтниковъ и кавалеровъ Андрея Яковлевича и Ѳедота Ивановича Поповыхъ*) **). Завѣщаніе это составлено 20 декабря 1832 г. и дополнено 2-мя актами 17 и 28 августа 1833 г.; въ дѣйствительное исполненіе со стороны наслѣдниковъ, окончательнымъ раздѣломъ, приведено, съ утвержденія Томскаго Губернскаго Правленія. 9 октября 1835 года. „На основаніи этого завѣщанія золотопромышленная Ко наслѣдниковъ Поповыхъ дѣйствіе свое воспріяла съ 1834 г.“
Замѣтка въ Горномъ Журналѣ за 1829 г., кн. 2, объясняетъ, что Коммерціи Совѣтникъ А. Я. Поповъ развѣдками съ мая 1827 г. открылъ болѣе 30 золотосодержащихъ пріисковъ, близъ Дмитріевской волости, Томскаго округа, по рѣкамъ Кіи, Бирикулѣ, Закромѣ и др." Взглянувши на памятникъ Андрея Яковлевича на кладбищѣ Александро-Невской лавры, прочтемъ, что онъ умеръ въ 1833 году 70 лѣтъ отъ роду. Изъ сопоставленія этихъ свѣдѣній опредѣляется возрастъ Андрея Яковлевича въ моментъ открытія пріисковъ въ Томской губ. —ему было тогда не менѣе 64 лѣтъ. Изъ упомянутаго выше духовнаго завѣщанія видно (п. 2, 9), что Андрей Яковлевичъ и Ѳедотъ Ивановичъ вели торговыя и промышленныя предпріятія совмѣстно на товарищескихъ началахъ, пополамъ, съ 1807 года; что предпріятія эти состояли въ содержаніи винныхъ откуповъ по Томской, Тобольской губ. и Омской области, арендѣ Падунскаго винокуреннаго завода, въ Кяхтинскомъ и Семипалатинскомъ торгѣ, промышленныхъ учрежденіяхъ на заимкѣ Ѳедота Ивановича, гдѣ послѣ его смерти, случившейся 20 анр. 1832 г., построена братомъ его Степаномъ Ивановичемъ церковь **). Изъ имѣющихся въ нашихъ рукахъ отчетовъ по откупамъ и другихъ данныхъ видно, что душою всѣхъ коммерческихъ начинаній и торговыхъ операцій былъ Ѳедотъ Ивановичъ, а дядя его Андрей Яковлевичъ, по крайней мѣрѣ въ послѣдніе годы, когда онъ сталъ серьезно болѣть, жилъ безвыѣздно въ Петербургѣ и представлялъ только фирму. Свидѣтельствъ о болѣзни Андрея Яковлевича много. Объ этомъ говоритъ самый фактъ составленія духовнаго завѣщанія; въ п. 7 завѣщанія, сказано: „Находящемуся при мнѣ канцеляристу Алексѣю Полкову, по бѣдному его состоянію, за постоянное его усердіе ко мнѣ и призрѣніе меня во время случавшихся со мною болѣзненныхъ припадковъ выдать единовременно въ пособіе отъ сорока до пятидесяти тысячъ рублей" и др.
Гдѣ же было хилому человѣку, въ преклонныхъ лѣтахъ, пускаться въ тайгу за поисками золота, обречь себя на всякаго рода лишенія и опасности, на каторжный трудъ, при непрерывномъ передвиженіи съ мѣста на мѣсто. Такимъ человѣкомъ могъ быть только Ѳедотъ Ивановичъ, какъ его рисуютъ современники (Записки Хвостова). Отправляясь на поиски золота и рудъ съ своими партіями, Ѳедотъ Ивановичъ зналъ, куда ихъ ведётъ. Помимо разносторонняго промышленнаго образованія, на Уралѣ онъ пріобрѣлъ практическое горное образованіе и за свои разслѣдованія получилъ отъ Богословскаго мѣдноплавильнаго завода (на Уралѣ), принадлежавшаго въ началѣ прошлаго вѣка генералъ-маіору Походяшеву, превосходный аттестатъ въ знаніи горнаго дѣла. Ходящая въ оборотѣ среди Томскаго общества версія, что Ѳедотъ Ивановичъ въ поискахъ золота разорился почти дотла и только слѣпой случай спасъ его отъ бѣды—чистѣйшій вымыселъ досужей фантазіи. Во всякое время, на основаніи того же духовнаго завѣщанія (п. 4), дополненій къ нему, реестру билетамъ, представленному въ Государственный Заемный Банкъ, 26 іюня 1836 г., и нѣкоторыхъ другихъ документовъ, легко подсчитать, какимъ капиталомъ владѣлъ Ѳедотъ Ивановичъ въ 1826 и І827 г.г., т. е. въ періодъ своихъ первыхъ серьезныхъ развѣдокъ и окажется, что капиталъ его былъ не ниже милліона рублей, не считая недвижимости и заводовъ. При такихъ условіяхъ, разумѣется, онъ былъ очень далекъ отъ разоренія. Подробную біографію Поповыхъ, и характеристику ихъ дѣятельности въ Сибири, и значеніе послѣдней для края оставляемъ до другаго раза.
*) Титулъ на подлинномъ завѣщаніи.
**) Въ правомъ предѣлѣ ея погребены останки обоихъ братьевъ и Анны Алексѣевны Поповыхъ.
******
Научныя новости.
Раскопки въ Туркестанѣ.
Въ Лондонѣ появилась недавно интересная книга д-ра Стейна „Вurіed Ruins of Khoton", содержащая описаніе путешествія Стейна въ пустынныхъ областяхъ китайскаго Туркестана въ 1900 — 1901 гг. подъ покровительствомъ индійскаго правительства.
Докторъ Стейнъ своими изслѣдованіями буквально производятъ переворотъ въ археологіи. Область, которая была колыбелью древнѣйшей цивилизаціи, оставалась почти не изслѣдованной до Стейна. Въ 1896 году Туркестанъ посѣтилъ Свенъ Хединъ, который впервые обратилъ вниманіе на возможность археологическихъ раскопокъ въ этихъ областяхъ. Во время своего проѣзда черезъ Котонъ онъ нашелъ развалины древняго города, засыпаннаго пескомъ. но у него не было времени заняться изслѣдованіями этихъ развалинъ. Только въ 1898 г. Стейнъ выработалъ подробный планъ для изслѣдованія этихъ областей и представилъ его индійскому правительству, которое черезъ два года послѣ этого организовало экспедицію подъ руководствомъ Стейна.
Результаты этой экспедиціи и опубликованы теперь въ новой книгѣ Стейна. Трудъ этотъ, прекрасно изданный, со множествомъ иллюстрацій, представляетъ большой интересъ не только для спеціалистовъ, но и для широкаго круга читателей. Разсказъ Стейна отличается необыкновенной живостью и ясностью. Въ своемъ трудѣ Стейнъ знакомитъ читателей съ исторіей интереснѣйшей страны на Востокѣ Древнее королевство Котонъ—оазисъ на бывшемъ караванномъ пути изъ Китая въ Индію. Это королевство имѣло очень большое значеніе на Востокѣ. Затѣмъ этотъ оазисъ постепенно начали заносить пески изъ великой пустыни, и городъ быль погребенъ подъ ними. Докторъ Стейнъ пять мѣсяцевъ производилъ свои раскопки и изслѣдованія надъ этимъ оазисомъ. Онъ проложилъ путь къ Іотканъ, древней столицѣ Котона, и къ нѣсколькимъ другимъ городамъ этого древнѣйшаго государства. Производя раскопки только на глубинѣ пяти футовъ, онъ открылъ развалины храмовъ, домовъ, украшенныхъ различными фресками съ такими яркими красками, какъ-будто онѣ были написаны только вчера. Вездѣ—памятники буддійскаго культа, но самымъ важнымъ изъ нихъ является открытый Стейномъ колоссальный храмъ Рабакъ, тонкой артистической работы, ясно носящій слѣды греческаго и вмѣстѣ индусскаго искусства.
Наиболѣе цѣннымъ открытіемъ, сдѣланнымъ Стейномъ, были найденные имъ документы, частью на китайскомъ, частью на индо-иранскомъ языкѣ, относящіеся къ эпохѣ за восемь столѣтій до Рожд. Хр. Книга поднимаетъ много вопросовъ крайне интересныхъ, какъ для оріенталистовъ, такъ и для всѣхъ интересующихся исторіей.
Конецъ войнѣ.
Смерть извѣстнаго русскаго писателя по философіи, редактора «Научнаго Обозрѣнія», М. М. Филипова, сопровождалась сообщеніями въ газетахъ о томь, что ученый этотъ стоялъ на порогѣ великаго открытія—онъ работалъ надъ открытіемъ способа передавать электрическую энергію на сравнительно большое разстояніе безъ какихъ бы ни было проводовъ. По-видимому, то же открытіе сдѣлалъ или собирается сдѣлать г. Гуарини, и если его обѣщанія исполнятся, то война со всѣми ея ужасами должна будетъ разъ на всегда исчезнуть съ лица земли.
Гуарини уже удалось произвести нѣсколько интересныхъ опытовъ, касающихся дѣйствія электрическихъ волнъ на человѣческое тѣло. Сначала онъ воспользовался человѣческимъ тѣломъ, какъ воспринимающимъ и передаточнымъ аппаратомъ при телеграфированіи безъ проводовъ. Пользуясь болѣе длинными воспринимающими аппаратами (болѣе сажени) и дѣйствуя рядомъ волнъ, полученныхъ отъ безпрерывныхъ разрядовъ, Гуарини могъ передать на довольно значительное разстояніе человѣку толчокъ, равный по силѣ удару отъ румкорфовой спирали. Удары измѣняются сообразно длинѣ искры. Гуарини пользовался въ своихъ опытахъ лишь слабою силою и небольшою разностью потенціала. Но онъ увѣряетъ, что силою въ 736 килоуаттъ при напряженіи въ 100000 вольтъ онъ могъ бы убить безъ всякаго прикосновеніи проволокой цѣлую армію на разстояніи въ 20 километровъ. Чтобы избѣжать такихъ бѣдствій, а, съ другой стороны, предотвратить столкновеніе двухъ готовыхъ растерзать другъ друга армій, Гуарини занялся вопросомъ о способахъ направленія дѣятельности волнъ и для маленькихъ разстояній будто бы разрѣшилъ его. Если только все это оправдается, что еще очень сомнительно, то всѣхъ результатовъ этого открытія трудно даже и предвидѣть. Во всякомъ случаѣ, электротехника собирается, по-видимому, выступить въ подтвержденіе мысли, высказываемой многими авторитетными людьми, въ томъ числѣ и Д. И. Менделѣевымъ, что усовершенствованіе орудій разрушенія является лучшимъ залогомъ мира: чѣмъ могущественнѣе орудія разрушенія, тѣмъ слабѣе охота воевать.
---------------------
О необыкновенномъ путешествіи семьи переселенцевъ Истратенко мы уже сообщали въ №(25б „Сиб. Жизни", теперь же напоминаемъ читателямъ лишь главныя подробности.
7 лѣтъ тому назадъ крестьянская семья изъ Калужской губ , состоящая изъ Димитрія Истратенко, его жены, сына, двухъ дочерей я внучки, пересеслалилась въ Сибирь, въ Томскую губ. Послѣ цѣлаго ряда мытарствъ и бѣдствій, семья эта наткнулась невдалекѣ отъ Каинска на золото. Было рѣшено взять сколько возможно золотой руды, доставить её на монетный дворъ, а на вырученныя деньги снова устроиться на родинѣ въ Калужской губ. Началось безпримѣрное путешествіе: молодой парень и двѣ молодыхъ женщины впряглись въ тачку, нагруженную 3 пудами золотой руды и зашагали по направленію къ Петербургу. Сзади тачки шагали 70-лѣтній глава семьи, его жена и 6-лѣтияя внучка. Кормились дорогой необыкновенные путешественники Христовымъ именемъ. Двинулись Истратенки въ путь 23 апрѣля, а въ Петербургъ пришли 5-го ноября. Такимъ образомъ они пробыли въ дорогѣ около 61/2 мѣсяцевъ и прошли за это время около 5,000 верстъ.
Результатъ столь необыкновеннаго путешествія оказался очень печальнымъ: по изслѣдованія руды на монетномъ дворѣ было установлено, что на руки многострадальной семьѣ за привезенное ею золото слѣдуетъ всего-навсего 20 рублей!
Положеніе несчастной семьи было очень печально, но, по позднѣйшимъ газетнымъ извѣстіямъ оказывается, что, въ виду того, что въ доставленной Истратенками рудѣ процентъ драгоцѣннаго металла оказался высокимъ, Истратенки снова возвращаются въ Сибирь, но на этотъ разъ уже на казенный счетъ, для детальнаго ознакомленія съ открытыми имя мѣсторожденіями золота.
Двухслойный pdf (текст под картинками)
https://yadi.sk/i/KerZMaLJrGgJS
pdf без маски (текст и картинки)
https://yadi.sk/i/lXVDea20rGgNx
Двухслойный pdf (текст поверх картинок)
https://yadi.sk/i/UPsnOTDrrGgMK
1. Отъ Красноярска до Минусинска.
Послѣ Оби съ ея однообразно низменными берегами, гдѣ среди безконечныхъ тальниковъ на протяженіи нѣсколькихъ дней пути ни одинъ пригорокъ не веселитъ утомленнаго монотонностью взора, Енисей поражаетъ путника богатымъ разнообразіемъ контуровъ и красокъ своихъ береговъ и подвижной мощью стремительнаго потока. Едва вы оставили Красноярскъ, направляясь на югъ, какъ вступаете въ скалистыя тѣснины, оригинальная красота которыхъ надолго удерживаетъ васъ на палубѣ парохода. По сибирскому выраженію, здѣсь рѣка идетъ „въ щекахъ" или „въ трубѣ". Впереди узкое русло извивается между крутыми синѣющими гривами, которыя, подходя къ рѣкѣ, то обрываются сплошными утесами, то выступаютъ впередъ крутыми быками. Первымъ выступаетъ на правомъ берегу верстахъ въ 17 отъ Красноярска—
Шалунинскій быкъ (рис. 1); упираясь въ него, быстрое теченіе, достигающее 8 верстъ въ часъ, круто поворачиваетъ въ рѣку и образуетъ водовороты. Нѣсколько дальше на лѣвомъ берегу обособились отъ общей стѣны нѣсколько живописныхъ утесовъ подъ названіемъ Овсянкина быка (рис. 2). Еще выше въ 25 верстахъ отъ Красноярска на правомъ берегу вырисовывается нѣсколькими уступами Манскій быкъ, обозначающій впаденіе крупнаго притока Енисея—Маны, длина которой опредѣляется приблизительно въ 700 верстъ. Начинаясь въ высокихъ отрогахъ Саянскаго хребта,
Мана протекаетъ по глухой, мало доступной тайгѣ и еще очень мало изслѣдована. Болѣе или менѣе глубоко въ ея дебри проникаетъ промысловый охотникъ, золотоискатель, дровосѣкъ, да изрѣдка пытливый натуралистъ. Говорятъ, большая часть звѣря, дичи, шкуръ и лѣсу на Красноярскій рынокъ поступаетъ именно съ Маны. Въ ея лѣсныхъ дебряхъ водятся соболь, медвѣдь, бѣлка, сымъ (маралъ), косуля, кабарга и др. звѣри.
Лось чаще попадается на противоположной, западной сторонѣ Енисея. Выше устья Маны горы праваго берега отошли немного въ сторону, давъ мѣсто покатой къ рѣкѣ лѣсистой низинѣ, гдѣ изъ-за высокихъ деревьевъ живописно выглядываютъ церковь и постройки монастырскаго скита (рис. 3). Такія прибрежныя низины на Енисеѣ носятъ названіе „плотбища". Слѣдующее плотбище съ селеніемъ прислонилось къ горамъ лѣваго берега, ниже рѣчки Бирюсы, устье которой обозначено высокими обрывистыми скалами съ цѣлымъ рядомъ пещеръ, хорошо видныхъ съ парохода. Присутствіе пещеръ ясно говоритъ объ известковой природѣ Енисейскихъ скалъ; дѣйствительно, въ этой части Енисея известняки достигаютъ значительнаго развитія, только на правомъ берегу мѣстами смѣняясь гранитами. Ночью на многихъ мѣстахъ лѣваго берега можно любоваться на яркое пламя известковыхъ обжигательныхъ печей.
Выше Бирюсы плотбища на долго пропадаютъ, и одинаково съ обѣихъ сторонъ подступаютъ скалистые утесы или крутыя пади съ узкими оврагами. Прибрежные утесы то обнажены, то покрыты не старымъ лѣсомъ березъ и сосенъ, между которыми тамъ, гдѣ позволяетъ уклонъ, ярко зеленѣютъ сочныя полянки. Въ началѣ лѣта онѣ расцвѣчены желтыми лиліями (Hemerocallis Flava) и ярко-красной саранкой (Lilium tenuifolium), не свойственной Западной Сибири; изъ высокой травы едва выглядываютъ знакомые намъ башмачки (Cypripedium macranthon, calceolus и guttatum) и другія орхидеи (Orchis, Gymnadenia, Platanthera), что придаетъ особенную прелесть прихотливому узорчатому берегу.
Изрѣдка на ничтожныхъ прибрежныхъ площадкахъ появляются и слѣды человѣка въ видѣ одинокихъ заимокъ или пріисковыхъ избушекъ, но селеній нѣтъ до Бахтинскаго плотбища, широко раскинувшагося на лѣвомъ берегу въ 85 верстахъ отъ Красноярска.
Немногія селенія тѣсной части Енисея не имѣютъ иного сообщенія съ Красноярскомъ, кромѣ рѣки, лѣтомъ на лодкахъ, зимой на саняхъ, такъ какъ непрерывной береговой полосы не существуетъ, а сложная конфигурація, хотя и невысокихъ, но крутыхъ горныхъ хребтовъ не даетъ возможности проложить сколько нибудь удобной дороги; даже почтовый трактъ изъ Минусинска на Красноярскъ проведенъ, минуя горы, на Ачинскъ.
Еще часа два ѣзды отъ Бахтинскаго, и мѣстность рѣзко измѣняется. Близъ селенія Езагашъ горы постепенно отступаютъ отъ Енисея и горизонтъ дѣлается болѣе открытымъ; рѣка разбита на протоки зеленѣющими островами; лѣсъ почти исчезаетъ, и мѣстность пріобрѣтаетъ степной характеръ. Однако это не та степь, которую мы видимъ на пути изъ Омска въ Семипалатинскъ, гдѣ ничѣмъ не нарушаемая равнина разстилается до горизонта. По Енисейской степи прошло сильное волненіе и осталось въ видѣ пологихъ хребтовъ и уваловъ, и эти неподвижныя волны, разсѣченныя Енисеемъ, выходятъ къ рѣкѣ какъ бы отдѣльными возвышенностями, которыя и обрываются здѣсь обыкновенноотвѣсными стѣнами, обнаруживая совсѣмъ иное геологическое сложеніе (рис. 4). На естественныхъ профиляхъ совершенно ясно видно согласное параллельное расположеніе осадочныхъ слоевъ; здѣсь преобладаютъ красные песчаники въ прослойку съ желтыми, бѣловатыми и зеленоватыми пластами. Но что особенно интересно, это—правильная смѣна направленія слоевъ. Вскорѣ за Езагашемъ, около села Сисимъ, слои песчаниковъ падаютъ вамъ по пути, а черезъ 10 верстъ, противъ села Убей, они начинаютъ подниматься; ближе къ селу Новоселову новое паденіе, за которымъ слѣдуетъ опять подъемъ. Особенно поучительна стѣна праваго берега Енисея немного выше Новоселовой, гдѣ на вашихъ глазахъ падающіе слои постепенно переходятъ въ горизонтальное положеніе и сейчасъ же начинаютъ опять подниматься, но скоро прерываются обширной низиной противъ деревни Яновой. Здѣсь мы видимъ, слѣдовательно, нижній горизонтъ складки (или синклинальную складку).
Общее направленіе складокъ съ сѣверо-востока на юго-западъ; всего ихъ насчитывается отъ Сисима до устья Тубы (правый протокъ) семь, при чемъ онѣ неравновелики по длинѣ; однѣ протянулись на нѣсколько десятковъ верстъ, другія измѣряются нѣсколькими верстами, такъ напр. на небольшемъ протяженіи между селеніями Тесь и Батени можно ясно видѣть четыре короткихъ складки.
Выше Батеней по направленію къ Минусинску начинаютъ преобладать открытыя степныя пространства, но тѣмъ явственнѣе выступаютъ складки, нерѣдко образуя красивые утесы, каковы Туранъ (рис. 5), Оюкъ, Тибсей и Каскаръ на правомъ берегу, Оглахты, Куня и Самохвалъ на лѣвомъ. Высоко выдаваясь надъ степными пространствами, они являются маяками, видными одинъ отъ другого непрерывной цѣпью, что даетъ возможность легко оріентироваться въ направленіи долины Енисея.
Въ степной части Енисея только однажды осадочные пласты прорываются кристаллической породой, именно—порфиромъ, изъ котораго состоитъ высокій обрывистый Батеневскій утесъ вплоть у пароходной пристани.
Чтобы лучше оцѣнить характеръ При- енисейской степи, полезно сдѣлать небольшую экскурсію в сторону отъ Енисея, напр. къ знаменитому озеру Шира, лежащему въ 55 вер. отъ села Батени.
Удаляясь отъ берега рѣки, вы попадаете въ обширную волнистую страну, состоящую изъ непрерывной системы пологихъ складокъ и уваловъ съ котловинами между ними. Крупнозернистая плотная почва, не образующая грязи даже въ сильное ненастье, покрыта степной растительностью сѣроватаго колорита съ преобладаніемъ полыней и злаковъ. На болѣе низкихъ мѣстахъ зеленѣютъ обширныя заросли пикульника (Iris biglumis) съ прочными корневищами, торчащими надъ поверхностностью земли. Между степными травами обильно бѣлѣетъ знаменитый эдельвейсъ (Leontopodium alpinum), въ Альпахъ растущій только на значительныхъ высотахъ. По степи разбросаны громадные курганы, обложенные рядомъ крупныхъ камней,—нѣмые свидѣтели минувшей и навсегда исчезнувшей культуры. Котловины между увалами часто заполнены солеными или прѣсными озерами; самое большое между солеными озерами и будетъ Шира, на берегу котораго раскинулся лѣчебной курортъ (рис. 6). Берега озера, кое гдѣ украшенные жалкими остатками исчезающихъ берёзъ и лиственницъ, на обрывахъ обнаруживаютъ то-же сложеніе изъ красныхъ песчаниковъ и мергелей, что и берега Енисея. Въ 4 верстахъ отъ Шира за невысокимъ уваломъ синѣетъ прѣсное озеро Иткуль, интересное въ томъ отношеніи, что его плоскій сѣв. восточный берегъ сложенъ изъ песчаниковъ, а юго-западный высокій образуетъ гранитную возвышенность, отчасти покрытую лѣсомъ лиственницъ и сочными полянами. Здѣсь довольно обильно встрѣчается другое высокогорное растеніе—желтый альпійскій макъ (Рараvеr аlріnum), не смотря на небольшую высоту мѣстности (около 500 метровъ надъ ур. моря).
Выходы на поверхность земли такихъ кристаллическихъ породъ, какъ граниты Иткуля или порфиры около Батеней, представляютъ въ Приенисейскихъ волнистыхъ степяхъ большую рѣдкость; все остальное пространство покрыто упомянутыми выше осадочными напластованіями, состоящими изъ песчаниковъ, мергелей и глинъ, лежащихъ на известнякахъ. Изслѣдованіе найденныхъ въ нихъ окаменѣлостей позволяетъ съ большой опредѣленностью причислить ихъ къ девонскому возрасту, предшествовавшему каменноугольной эпохѣ. Такія же напластованія находятся и на восточномъ склонѣ Урала, на основаніи чего полагаютъ, что осадочныя образованія приенисейскихъ степей отложены Изъ одного общаго морскаго бассейна, покрывавшаго Сибирь отъ Урала до подошвы Саянскаго хребта. Обсохшіе осадочные пласты подверглись боковому давленію, вслѣдствіе чего они изъ первоначальнаго горизонтальнаго положенія пришли въ состояніе складочное, какъ это мы видѣли по берегу Енисея. Весьма возможно, что тектоническіе процессы, обусловившіе образованіе складокъ, еще не успокоились, о чемъ свидѣтельствуютъ изрѣдка повторяющіеся подземные толчки въ интересующемъ насъ районѣ, а складки продолжаютъ формироваться и по настоящѣе время.
Образовавшіяся такимъ путемъ тектоническія складки подверглись новому воздѣйствію процессовъ эрозіи, т. е. размывающему дѣйствію наземныхъ водъ, скопляющихся изъ осадковъ. Протекая по склонамъ уваловъ и по логамъ, снѣговыя и дождевыя воды размываютъ образовавшіяся прежде складки, сносятъ песокъ и глину въ низины, заполненныя озерами, и такимъ образомъ нивелируя холмистую мѣстность, отлагаютъ новые,
современные намъ осадки, какъ бы имѣя цѣлью уничтожить всѣ возвышенія и создать ровную безбрежную степь.
Поразительнѣе всего сказываются процессы размыванія на утесахъ по берегу Енисея. Вертикальныя стѣны утесовъ противъ Новоселовой и особенно около дер. Тесь, достигающія высоты 40—50 саженъ, прорѣзаны глубокими вертикальными трещинами, которыя отдѣляютъ отъ стѣны цѣлую систему столбовъ. Енисей изъ года въ годъ понемногу подтачиваетъ ихъ основаніе, наконецъ, столбы не выдерживаютъ собственной тяжести и съ грохотомъ обрушиваются къ подножію стѣны и въ Енисей, создавая громадную волну, которой боятся пароходы*). Кое-гдѣ подъ стѣной видны кучи крупнаго и мелкаго щебня, какъ результатъ подобныхъ обваловъ; на нѣкоторыхъ кучахъ уже успѣли вырасти высокіе тополя и кустарники; на другихъ, болѣе свѣжихъ, еще не выросло ничего; такимъ кучамъ недавнихъ обваловъ на стѣнѣ соотвѣтствуютъ болѣе темныя вертикальныя пятна. Подъ утесами Оглахты тянется вдоль урѣза рѣки цѣлая грядка щебня, также поросшая линіей ярко-зеленѣющихъ тополей. Болѣе мелкій матеріалъ отъ обвалившихся утесовъ подхватывается быстрымъ теченіемъ рѣки, окончательно перемалывается и уносится дальше, гдѣ и отлагается въ видѣ мелей и острововъ.
Уже бѣглый осмотръ береговъ Енисея показываетъ, какія поучительныя картины пробѣгаютъ передъ глазами, и можно съ увѣренностью сказать, что здѣсь мы имѣемъ весьма благодарный матеріалъ для образовательныхъ поѣздокъ, и большихъ, и малыхъ. Если къ этому прибавить прелесть лѣтней поѣздки на довольно удобныхъ пароходахъ, то желаніе посовѣтовать эту поѣздку каждому напрашивается само собой.
Послѣ 2—3 дневного плаванія пароходъ, огибая послѣдній утесъ у деревни Быстрой, поворачиваетъ въ Тихую протоку Енисея и черезъ полчаса пристаетъ къ Минусинску. Объ этомъ маленькомъ, невзрачномъ городкѣ нельзя сказать, какъ о большей части маленькихъ россійскихъ городковъ, что онъ „ничѣмъ особеннымъ не замѣчателенъ". Нѣтъ, онъ весьма замѣчателенъ своимъ музеемъ Минусинскаго края и имѣетъ свою знаменитость—создателя музея H. М. Мартьянова, около котораго вмѣстѣ съ музеемъ группируются немногія интеллигентныя силы города.
(Продолженіе будетъ).
*) Кажется, въ 70 годахъ громадной волной, образовавшейся отъ подобнаго обвала на Иртышѣ близъ Сахарова,выкинуло на противоположный берегъ большую шхуну, гдѣ она и обсохла.
*****
Эскизы безъ тѣней*)
(Изъ жизни сибирскою крестьянства).
(Окончаніе,—см. N 265).
Взвыли мы только, горькими взвыли, што загубили свое дѣтище, связали ее навѣкъ по рукамъ, по ногамъ съ непутевымъ человѣкомъ; ну, да сколь не плачь, слезами ужъ горю не пособишь, чего сдѣлано, не передѣлаешь. Ну. ждемъ, авось, думаемъ, образумится, придетъ иешо: ждемъ это день—нѣту, другой и третій— нѣтъ Абрама. Старикъ-то хотѣлъ ужъ было къ старостѣ съ объявкой идти, думалъ ужъ не доспѣлось-ли съ нимъ чего. Только слышимъ, Абрамушко нашъ въ работники нанялся въ деревню къ хрестьянину,—звать-то Спиридономъ, только ужъ чей пишется-то не въ память, не спрашивай, женское дѣло-то... Руками только всплеснули мы, услыхавши это. Гдѣ и умъ у человѣка. Полюбилась неволя слаще воли, домухозяйство на батрачество смѣнилъ. Схватился старикъ-то мой за голову, да такъ, слышь, и упалъ на лавку—вотъ тебѣ и призоръ и опора въ старости! Погоревали, погоревали это мы, только старикъ-то и говоритъ: „Опомнится исшо, прилики это онъ строитъ, устрашать хочетъ, што вотъ-де поживите-ка безъ меня на старости, поорудуйте хозяйствомъ, хватитъ-ли силъ- то, волей да неволей, какъ хворь-то изниметъ да рушиться все пойдетъ, такъ сдѣлаете по моему, дадите гумагу мнѣ“! Ну, горько-ли, сладко-ли, живемъ, нечего дѣлать-то! Не прошло, скажу тебѣ, и двухъ недѣль, шлетъ намъ вѣсть Абрамъ, што занемогъ-де, убился: поѣхалъ по сѣно въ поле да вишь со стогу какъ-то его шатнуло, упалъ и бокомъ-то на колъ у остожья угодилъ, едва живой ужъ до дому-то доѣхалъ, такъ пущай-де жена навѣдать пріѣдетъ. Ну, старикъ-то мой и, говоритъ, вотъ ей, дочкѣ то: „Поѣзжай Лукерья, навѣдай! какой ни есть да все мужъ, законъ приняла съ нимъ“.. Ну, Луша-то и поѣхала къ нему—уѣхала да и уѣхала, ждемъ, ждемъ и вѣсти нѣтъ. Господи, што молъ тамъ творится, ужъ живъ-ли онъ, думамъ Съ перелоги энтой, съ думы то, старикъ-то вижу, въ сокрушенье впалъ: обхватитъ это, бывало, голову руками, сидитъ, и словно, слышь, не видитъ и не слышитъ ничего. Скорбѣлъ это сердцемъ-то: не чужое вѣдь дѣтище- то, свое, ну и занемогъ. Престарѣлые ужъ годы-то, труда-то и увѣчья-то не мало на вѣку принялъ: два раза вѣдь съ мельницы падалъ, кормилецъ, грудью расшибался, безъ дыханія почесть поднимали,—съ тѣхъ-то поръ и сталъ все здоровьемъ скучать, перемогаться. Ну, какъ занемогъ онъ, я и рѣшила: дай молъ съѣзжу, сама провѣдаю. Попросила по сусѣдству старушку одну наблюсти безъ меня за старикомъ-то и домашностью и поѣхала. А онъ, слышь, Абрамъ-то, зятекъ-то вызвалъ жену-то къ себѣ и не пущалъ ее домой-то. Коли, говоритъ, я въ батракахъ живу, такъ и ты иди въ услуженье въ постратки, а въ дому у родителевъ, штобъ житья твоего не было". Это отъ дому-то своего, отъ хозяйства-то, отъ родителевъ-то въ постратки идти! Есть-ли умъ у человѣка? спрошу тебя. Суди! Пріѣхала я въ Ш—ву- то къ хозяину-то его въ домъ, и вижу, заливается Лукерья-то моя горькими, сердце-то болитъ объ насъ, а ослухаться- то не смѣетъ, изъ воли-то его выдти, потому—онъ одно твердитъ: коли не повинишься, убью! Нитка-де за иглой идетъ, а не игла за ниткой. Ну, чего-же? стала я ему говорить: отпусти-де дочь къ намъ и родитель-то на смертномъ одрѣ почесть лежитъ и мое дѣло немочное,—неужъ помирать-то будемъ, такъ чужіе люди придутъ глаза-то закрыть намъ, образумься! Не грѣши говорю, ну тутъ и хозяинъ-то его сталъ говорить ему, што самъ-де ты, какъ хошь дѣлай, а отнимать волю у дочери призрѣвать родителевъ не можешь. Ну, послухалъ онъ хозяйскаго-то слова, отпустилъ ее къ намъ. Привезла я ее домой, живемъ... Только однова это къ вечеру, никакъ черезъ недѣлю время-то—глядимъ, подъѣхалъ къ воротамъ Абрамъ въ разваленкахъ: съ нимъ исшо какой-то молодецъ, ужъ не скажу чей будетъ, не знаю. Ну, вошелъ это Абрамъ-то въ избу къ намъ степенно такъ, посидѣлъ почесть съ часъ время, поговорилъ и все бы ладно такъ, ровно бы, полагать надо, въ умъ человѣкъ входитъ: пріѣхалъ провѣдать, говоритъ, ну и по женѣ заскучалъ. Старикъ-то мой ласково столъ обошелся съ нимъ и ночевать его было оставлялъ, а на утро и уѣдешь, говоритъ. Ну, не остался: потому, говоритъ, уѣхалъ-то, не сказавшись хозяину. Ну, простились чинъ чиномъ, и пошелъ онъ изъ избы. Старикъ-то исшо и промолвилъ ему; навѣшай, говоритъ, почаще, не чужіе вѣдь будемъ! А Луша-то это накинулась, скажу тебѣ, азямомъ и пошла проводить егоза ворота. Только, слышу, вскрикнула она благимъ это матомъ; кинулась я къ окошку-то, глянула— такъ индѣ сердце-то у меня такъ вотъ и замерло, родимый. Бросили они ее, Лушу-то, въ розваленки и поскакали. Я-то хочу это изъ избы за ворота выбѣжать и не могу, не могу это съ ноженьками-то сладить—отнялись. Ну, кое-то какъ это, черезъ силу мочи, выползла я изъ избы-то за ворота, крикнула "д-е-ржи"! да гдѣ тебѣ, время ночное, на улицѣ то хоть- бы ж адная душа была, а они ужъ, гляжу, у околицы скачутъ, да дорогой-то, погляди-ко, батюшка, чего съ ней дѣяли,—произнесла она утирая слезы. „Обскажи, Луша, его милости, какъ тиранили-то тебя"!—обратилась она къ дочери.
— Стегали, почти шопотомъ произнесла Луша, стыдливо понуря голову...
— Ты не бойся, Луша, обскажи все какъ было, чего бояться-то. Пужлива она, батюшка, ужъ не обезсудь, произнесла старуха, обратившись ко мнѣ. Молодое дѣло-то, съ начальствомъ-то не приводилось исшо разговаривать, ну и нѣту будто словъ-то!.. Чего вѣдь дѣяли-то съ ней батюшко! Осподи, говорю, какъ повалили ее въ розвальни то, она извѣстно, стала биться, наровила вырваться отъ нихъ, соскочить съ дровенъ-то, а муженекъ-то энто сорвалъ съ нея азямъ-то, юбку, оставилъ въ одной рубахѣ. Это зимой-то, кормилецъ? Да привязалъ, слышь, голову-то ей косами-то волосъ къ ободу дровенъ; глядико, какія плѣшины-то выдрали на головѣ — ужасть! руки-то тоже обмотали ей опояской да привязали къ дровнямъ, да и давай, говоритъ, возжами стегать почему ни попало. Не убой-ли ото, родимый?—да всю то дороженьку, это девять-то верстъ, ее нагую везли, сердешную, да и тиранили. Вѣдь на тѣло-то ей поглядѣть, такъ ужасть!... ужасть, говорю, возьметъ, сердце кровью обольется. . живаго-то мѣста не найдешь, все избито да изсѣчено, все рубцы, да синія полосы, што ись грудь-то и та изстегана. Глядико, какъ щеку-то изодрала, бившись голо- вой-то объ ободъ дровенъ. Такъ ужъ. говорить, и не помню, какъ привезли-то меня, выбили изъ памяти-то. Ну, вотъ, какъ увезъ это онъ, скажу тебѣ, старикъ-то и велѣлъ мнѣ къ старостѣ сбѣгать за помочью. Пришла это я къ старостѣ, такъ и такъ говорю, Ефимъ Денисычъ, земно поклонилась ему, съѣзди со мной, говорю, обворотить дочь; боюсь, говорю, кабы не доспѣли чего съ ней,— плачу это, горькими плачу. Ну, послушалъ онъ меня, дай Богъ ему здоровья.
„Ужъ и не досужно, говорить, да сбѣгамъ, а то опосля пожалуй исшо въ отвѣтъ-бы не попасть! Ну, поѣхали. Пріѣзжаемъ это въ Ш—ву, онъ къ старость ихнему кинулся, тотъ народу съ собой человѣкъ съ десятокъ присогласилъ. Поѣхали къ избѣ Спиридона, Абрамова-то хозяина. Пошли во дворъ-то, глядимъ, Абрамъ-то лошадь изъ дровенъ выпрягаетъ, вся-то въ мылѣ. Спиридона-то самого дома нѣту. Глянули, а Луша-то лежитъ въ дровняхъ, армякомъ прикрыта, косы-то ужъ отвязаны, раскосмачены это. Хозяйка-то Спиридона фонари вынесла. Оглядѣли кикъ ее,
Лушу-то. такъ индѣ мужики-то ахнули.
— Ты что-жъ это съ бабой-то сдѣлалъ? — нашъ-то староста спросилъ Абрама.
— Уму, говорить, училъ.
— Нѣшто ты воленъ такь уму учить, убивать человѣка.
— Стало быть, воленъ, говоритъ, коли обучилъ,—съ грубостью это такою Абрамъ-то отвѣть даетъ. — Мужъ жену училъ, никому, говоритъ, дѣла нѣтъ, препятствовать, говорить, никто не долженъ, на то и законъ она со мной приняла, а коли учу, говоритъ, такъ стало быть знаю, за што обучаю.
— Да вѣдь ты убилъ ее почесть,—заговорили мужики-то.
— Отдышется. На предки ужъ изъ воли моей выходить не станетъ, не станетъ отъ мужа отъѣзжать: памятно, говорить будетъ, станетъ и мужа почитать,— съ усмѣшкой это отвѣчаетъ имъ.
— Ну, туть старосты, дай имъ Богъ здоровья, и нашъ-то, и Ш—ій-то писаря призвали, написали это гумагу, печати приклали и сичасъ-же это скрутили Абраму руки и въ
волость. Онъ исшо было и на старостовъ- то с полѣномъ бросился, ну да они его, дай имъ Господи здоровья, такъ его полѣньями поучили,
што онъ вы-ы-ы-ылъ... вы-ылъ... какъ песъ какой и дотоль они... его и мужики-то, это полѣньями-то учили, поколь ужъ онъ голосу не рѣшился и не замеръ. А ее-то голубушку, это Лушу-то, какъ подняли съ дровенъ-то, такъ, вѣришь, милостивецъ, едва до избы-то довели... такъ ее словно вотъ вѣтромъ и качаетъ изъ стороны въ сторону, ноженьки-то отнялись, избита вся. Положили ее въ избѣ-то на лавку. Упала я на нее и столь-то это тошнехонько стало мнѣ, што загубили дѣтище, выла, выла надъ ней сердешной, да и не помню, какъ домой-то ее свезли, не въ памяти ровно и сама-то была!.. Заступись, кормилецъ, заступись, родимый,—рыдая произнесла она, палая въ ноги — Гумагу-то, сказываютъ, изъ волости къ земскому засѣдателю услали, слѣдствіе вишь будетъ.
— А гдѣ-же Абрамъ теперь?... спросилъ я — Въ волости содержатъ его, въ арестантской, до слѣдствія будто. Ну, што какъ его выпустятъ!.. убьетъ онь Лушу-то, не жить ей на бѣломъ свѣтѣ, не жить. Дай кормилецъ гумагу, штобъ подъ призоръ опчества, да старостѣ препоручить Лушу-то, оглянись на слезы-то наши.. А-ахъ Господи... Осподи... загубили дѣтище свое, загубили! обливаясь слезами говорила она На наши души со старикомъ взяли грѣхъ. Ну, да вѣдали-ли...
Чѣмъ кончилось слѣдствіе и дѣло, мнѣ неизвѣстно. Знаю только, что Абрамъ былъ вскорѣ выпущенъ изъ подъ ареста и ушелъ на пріиски.
*****
Петръ Гусаренко "Верхотурскій 1-й гильдіи купецъ, Коммерціи Совѣтникъ и кавалеръ Ѳедотъ Ивановичъ Поповъ"
Скоро забылъ Томскъ имя одного изъ своихъ благодѣтелей, самаго виднаго, который, по удачному выраженію г. Г. П. въ его статьѣ: „На зарѣ золотопромышленности въ Томской тийгѣ“ („Сиб. Ж.“, прил. къ № 249 16 нояб. 1903 г.), открылъ „золотое дно". Мы дѣлаемъ упрекъ не маститому журналисту за вкравшіяся въ его статью существенныя ошибки, а обществу, которое дало ничтожный и малодоброкачественный матеріалъ. Литераторъ съ своей стороны сдѣлалъ все: онъ остановилъ общественное вниманіе вниманіе
на крупномъ мѣстномъ историческомъ событіи, преподалъ совѣтъ какъ слѣдуетъ чтить истиннаго героя, сравнивъ его съ Ермакомъ, и показалъ рядомъ типы болѣе мелкіе, какъ напримѣръ, Ф. А. Гороховъ—въ 1832 г. еще только Каинскій городничій, а въ 1840 г. уже Томскій губернскій прокуроръ и мѣстный „герцогъ". Мы вполнѣ убѣждены, что Сибирскій Общественный Банкъ, а также и Томская женская гимназія не отказали бы автору г. Г. П. въ предоставленіи необходимыхъ матеріаловъ по заинтересовавшему его вопросу. Основной документъ для ознакомленія съ началомъ мѣстной золотопромышленности —это „Духовное завѣщаніе Коммерціи Совѣтника и кавалера Андрея Яковлевича Попова, служащее основаніемъ золотопромышленной компаніи наслѣдниковъ Гг. Коммерціи Совѣтниковъ и кавалеровъ Андрея Яковлевича и Ѳедота Ивановича Поповыхъ*) **). Завѣщаніе это составлено 20 декабря 1832 г. и дополнено 2-мя актами 17 и 28 августа 1833 г.; въ дѣйствительное исполненіе со стороны наслѣдниковъ, окончательнымъ раздѣломъ, приведено, съ утвержденія Томскаго Губернскаго Правленія. 9 октября 1835 года. „На основаніи этого завѣщанія золотопромышленная Ко наслѣдниковъ Поповыхъ дѣйствіе свое воспріяла съ 1834 г.“
Замѣтка въ Горномъ Журналѣ за 1829 г., кн. 2, объясняетъ, что Коммерціи Совѣтникъ А. Я. Поповъ развѣдками съ мая 1827 г. открылъ болѣе 30 золотосодержащихъ пріисковъ, близъ Дмитріевской волости, Томскаго округа, по рѣкамъ Кіи, Бирикулѣ, Закромѣ и др." Взглянувши на памятникъ Андрея Яковлевича на кладбищѣ Александро-Невской лавры, прочтемъ, что онъ умеръ въ 1833 году 70 лѣтъ отъ роду. Изъ сопоставленія этихъ свѣдѣній опредѣляется возрастъ Андрея Яковлевича въ моментъ открытія пріисковъ въ Томской губ. —ему было тогда не менѣе 64 лѣтъ. Изъ упомянутаго выше духовнаго завѣщанія видно (п. 2, 9), что Андрей Яковлевичъ и Ѳедотъ Ивановичъ вели торговыя и промышленныя предпріятія совмѣстно на товарищескихъ началахъ, пополамъ, съ 1807 года; что предпріятія эти состояли въ содержаніи винныхъ откуповъ по Томской, Тобольской губ. и Омской области, арендѣ Падунскаго винокуреннаго завода, въ Кяхтинскомъ и Семипалатинскомъ торгѣ, промышленныхъ учрежденіяхъ на заимкѣ Ѳедота Ивановича, гдѣ послѣ его смерти, случившейся 20 анр. 1832 г., построена братомъ его Степаномъ Ивановичемъ церковь **). Изъ имѣющихся въ нашихъ рукахъ отчетовъ по откупамъ и другихъ данныхъ видно, что душою всѣхъ коммерческихъ начинаній и торговыхъ операцій былъ Ѳедотъ Ивановичъ, а дядя его Андрей Яковлевичъ, по крайней мѣрѣ въ послѣдніе годы, когда онъ сталъ серьезно болѣть, жилъ безвыѣздно въ Петербургѣ и представлялъ только фирму. Свидѣтельствъ о болѣзни Андрея Яковлевича много. Объ этомъ говоритъ самый фактъ составленія духовнаго завѣщанія; въ п. 7 завѣщанія, сказано: „Находящемуся при мнѣ канцеляристу Алексѣю Полкову, по бѣдному его состоянію, за постоянное его усердіе ко мнѣ и призрѣніе меня во время случавшихся со мною болѣзненныхъ припадковъ выдать единовременно въ пособіе отъ сорока до пятидесяти тысячъ рублей" и др.
Гдѣ же было хилому человѣку, въ преклонныхъ лѣтахъ, пускаться въ тайгу за поисками золота, обречь себя на всякаго рода лишенія и опасности, на каторжный трудъ, при непрерывномъ передвиженіи съ мѣста на мѣсто. Такимъ человѣкомъ могъ быть только Ѳедотъ Ивановичъ, какъ его рисуютъ современники (Записки Хвостова). Отправляясь на поиски золота и рудъ съ своими партіями, Ѳедотъ Ивановичъ зналъ, куда ихъ ведётъ. Помимо разносторонняго промышленнаго образованія, на Уралѣ онъ пріобрѣлъ практическое горное образованіе и за свои разслѣдованія получилъ отъ Богословскаго мѣдноплавильнаго завода (на Уралѣ), принадлежавшаго въ началѣ прошлаго вѣка генералъ-маіору Походяшеву, превосходный аттестатъ въ знаніи горнаго дѣла. Ходящая въ оборотѣ среди Томскаго общества версія, что Ѳедотъ Ивановичъ въ поискахъ золота разорился почти дотла и только слѣпой случай спасъ его отъ бѣды—чистѣйшій вымыселъ досужей фантазіи. Во всякое время, на основаніи того же духовнаго завѣщанія (п. 4), дополненій къ нему, реестру билетамъ, представленному въ Государственный Заемный Банкъ, 26 іюня 1836 г., и нѣкоторыхъ другихъ документовъ, легко подсчитать, какимъ капиталомъ владѣлъ Ѳедотъ Ивановичъ въ 1826 и І827 г.г., т. е. въ періодъ своихъ первыхъ серьезныхъ развѣдокъ и окажется, что капиталъ его былъ не ниже милліона рублей, не считая недвижимости и заводовъ. При такихъ условіяхъ, разумѣется, онъ былъ очень далекъ отъ разоренія. Подробную біографію Поповыхъ, и характеристику ихъ дѣятельности въ Сибири, и значеніе послѣдней для края оставляемъ до другаго раза.
*) Титулъ на подлинномъ завѣщаніи.
**) Въ правомъ предѣлѣ ея погребены останки обоихъ братьевъ и Анны Алексѣевны Поповыхъ.
******
Научныя новости.
Раскопки въ Туркестанѣ.
Въ Лондонѣ появилась недавно интересная книга д-ра Стейна „Вurіed Ruins of Khoton", содержащая описаніе путешествія Стейна въ пустынныхъ областяхъ китайскаго Туркестана въ 1900 — 1901 гг. подъ покровительствомъ индійскаго правительства.
Докторъ Стейнъ своими изслѣдованіями буквально производятъ переворотъ въ археологіи. Область, которая была колыбелью древнѣйшей цивилизаціи, оставалась почти не изслѣдованной до Стейна. Въ 1896 году Туркестанъ посѣтилъ Свенъ Хединъ, который впервые обратилъ вниманіе на возможность археологическихъ раскопокъ въ этихъ областяхъ. Во время своего проѣзда черезъ Котонъ онъ нашелъ развалины древняго города, засыпаннаго пескомъ. но у него не было времени заняться изслѣдованіями этихъ развалинъ. Только въ 1898 г. Стейнъ выработалъ подробный планъ для изслѣдованія этихъ областей и представилъ его индійскому правительству, которое черезъ два года послѣ этого организовало экспедицію подъ руководствомъ Стейна.
Результаты этой экспедиціи и опубликованы теперь въ новой книгѣ Стейна. Трудъ этотъ, прекрасно изданный, со множествомъ иллюстрацій, представляетъ большой интересъ не только для спеціалистовъ, но и для широкаго круга читателей. Разсказъ Стейна отличается необыкновенной живостью и ясностью. Въ своемъ трудѣ Стейнъ знакомитъ читателей съ исторіей интереснѣйшей страны на Востокѣ Древнее королевство Котонъ—оазисъ на бывшемъ караванномъ пути изъ Китая въ Индію. Это королевство имѣло очень большое значеніе на Востокѣ. Затѣмъ этотъ оазисъ постепенно начали заносить пески изъ великой пустыни, и городъ быль погребенъ подъ ними. Докторъ Стейнъ пять мѣсяцевъ производилъ свои раскопки и изслѣдованія надъ этимъ оазисомъ. Онъ проложилъ путь къ Іотканъ, древней столицѣ Котона, и къ нѣсколькимъ другимъ городамъ этого древнѣйшаго государства. Производя раскопки только на глубинѣ пяти футовъ, онъ открылъ развалины храмовъ, домовъ, украшенныхъ различными фресками съ такими яркими красками, какъ-будто онѣ были написаны только вчера. Вездѣ—памятники буддійскаго культа, но самымъ важнымъ изъ нихъ является открытый Стейномъ колоссальный храмъ Рабакъ, тонкой артистической работы, ясно носящій слѣды греческаго и вмѣстѣ индусскаго искусства.
Наиболѣе цѣннымъ открытіемъ, сдѣланнымъ Стейномъ, были найденные имъ документы, частью на китайскомъ, частью на индо-иранскомъ языкѣ, относящіеся къ эпохѣ за восемь столѣтій до Рожд. Хр. Книга поднимаетъ много вопросовъ крайне интересныхъ, какъ для оріенталистовъ, такъ и для всѣхъ интересующихся исторіей.
Конецъ войнѣ.
Смерть извѣстнаго русскаго писателя по философіи, редактора «Научнаго Обозрѣнія», М. М. Филипова, сопровождалась сообщеніями въ газетахъ о томь, что ученый этотъ стоялъ на порогѣ великаго открытія—онъ работалъ надъ открытіемъ способа передавать электрическую энергію на сравнительно большое разстояніе безъ какихъ бы ни было проводовъ. По-видимому, то же открытіе сдѣлалъ или собирается сдѣлать г. Гуарини, и если его обѣщанія исполнятся, то война со всѣми ея ужасами должна будетъ разъ на всегда исчезнуть съ лица земли.
Гуарини уже удалось произвести нѣсколько интересныхъ опытовъ, касающихся дѣйствія электрическихъ волнъ на человѣческое тѣло. Сначала онъ воспользовался человѣческимъ тѣломъ, какъ воспринимающимъ и передаточнымъ аппаратомъ при телеграфированіи безъ проводовъ. Пользуясь болѣе длинными воспринимающими аппаратами (болѣе сажени) и дѣйствуя рядомъ волнъ, полученныхъ отъ безпрерывныхъ разрядовъ, Гуарини могъ передать на довольно значительное разстояніе человѣку толчокъ, равный по силѣ удару отъ румкорфовой спирали. Удары измѣняются сообразно длинѣ искры. Гуарини пользовался въ своихъ опытахъ лишь слабою силою и небольшою разностью потенціала. Но онъ увѣряетъ, что силою въ 736 килоуаттъ при напряженіи въ 100000 вольтъ онъ могъ бы убить безъ всякаго прикосновеніи проволокой цѣлую армію на разстояніи въ 20 километровъ. Чтобы избѣжать такихъ бѣдствій, а, съ другой стороны, предотвратить столкновеніе двухъ готовыхъ растерзать другъ друга армій, Гуарини занялся вопросомъ о способахъ направленія дѣятельности волнъ и для маленькихъ разстояній будто бы разрѣшилъ его. Если только все это оправдается, что еще очень сомнительно, то всѣхъ результатовъ этого открытія трудно даже и предвидѣть. Во всякомъ случаѣ, электротехника собирается, по-видимому, выступить въ подтвержденіе мысли, высказываемой многими авторитетными людьми, въ томъ числѣ и Д. И. Менделѣевымъ, что усовершенствованіе орудій разрушенія является лучшимъ залогомъ мира: чѣмъ могущественнѣе орудія разрушенія, тѣмъ слабѣе охота воевать.
---------------------
О необыкновенномъ путешествіи семьи переселенцевъ Истратенко мы уже сообщали въ №(25б „Сиб. Жизни", теперь же напоминаемъ читателямъ лишь главныя подробности.
7 лѣтъ тому назадъ крестьянская семья изъ Калужской губ , состоящая изъ Димитрія Истратенко, его жены, сына, двухъ дочерей я внучки, пересеслалилась въ Сибирь, въ Томскую губ. Послѣ цѣлаго ряда мытарствъ и бѣдствій, семья эта наткнулась невдалекѣ отъ Каинска на золото. Было рѣшено взять сколько возможно золотой руды, доставить её на монетный дворъ, а на вырученныя деньги снова устроиться на родинѣ въ Калужской губ. Началось безпримѣрное путешествіе: молодой парень и двѣ молодыхъ женщины впряглись въ тачку, нагруженную 3 пудами золотой руды и зашагали по направленію къ Петербургу. Сзади тачки шагали 70-лѣтній глава семьи, его жена и 6-лѣтияя внучка. Кормились дорогой необыкновенные путешественники Христовымъ именемъ. Двинулись Истратенки въ путь 23 апрѣля, а въ Петербургъ пришли 5-го ноября. Такимъ образомъ они пробыли въ дорогѣ около 61/2 мѣсяцевъ и прошли за это время около 5,000 верстъ.
Результатъ столь необыкновеннаго путешествія оказался очень печальнымъ: по изслѣдованія руды на монетномъ дворѣ было установлено, что на руки многострадальной семьѣ за привезенное ею золото слѣдуетъ всего-навсего 20 рублей!
Положеніе несчастной семьи было очень печально, но, по позднѣйшимъ газетнымъ извѣстіямъ оказывается, что, въ виду того, что въ доставленной Истратенками рудѣ процентъ драгоцѣннаго металла оказался высокимъ, Истратенки снова возвращаются въ Сибирь, но на этотъ разъ уже на казенный счетъ, для детальнаго ознакомленія съ открытыми имя мѣсторожденіями золота.
Двухслойный pdf (текст под картинками)
https://yadi.sk/i/KerZMaLJrGgJS
pdf без маски (текст и картинки)
https://yadi.sk/i/lXVDea20rGgNx
Двухслойный pdf (текст поверх картинок)
https://yadi.sk/i/UPsnOTDrrGgMK
Показать спойлер
"...если такъ называемые „западники", отправляясь отъ настроеній и тяжкихъ условій современности, видѣли выходъ въ усвоеніи западно-европейскихъ, формъ политическаго быта, то ихъ противники-которыхъ нѣсколько односторонне назвали „славянофилами"—находили современныя злоупотребленія явленіемъ наноснымъ, случайнымъ, извращеніемъ нормальныхъ національныхъ формъ жизни"
"...Славянофилы...Два наиболѣе оригинальныхъ русскихъ историка того времени, Костомаровъ и Щаповъ, тѣсно примыкаютъ къ этому направленію.
Основнымъ пунктомъ своей теоріи, на ряду съ началомъ „областности", „земской союзности", Щаповъ провозгласилъ „народъ, духъ народный, творящій исторію"
"... Въ Сибири это племя пришло въ прикосновеніе съ азіатскими племенами,— и въ результатѣ сталъ создаваться новый областной типъ, „не раздѣлявшій въ одинаковой степени признаковъ обѣихъ родоначальныхъ расъ"
Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №277
за Воскресенье, 21-го декабря 1903 года.
в номере:
"...Славянофилы...Два наиболѣе оригинальныхъ русскихъ историка того времени, Костомаровъ и Щаповъ, тѣсно примыкаютъ къ этому направленію.
Основнымъ пунктомъ своей теоріи, на ряду съ началомъ „областности", „земской союзности", Щаповъ провозгласилъ „народъ, духъ народный, творящій исторію"
"... Въ Сибири это племя пришло въ прикосновеніе съ азіатскими племенами,— и въ результатѣ сталъ создаваться новый областной типъ, „не раздѣлявшій въ одинаковой степени признаковъ обѣихъ родоначальныхъ расъ"
Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №277
за Воскресенье, 21-го декабря 1903 года.
в номере:
Показать спойлер
Афанасій Прокопьевичъ Щаповъ.
А. П. Щаповъ былъ по происхожденію коренной сибирякъ. Предокъ его, крестьянинъ Щаповъ, поселился въ только что возникавшей Ангинской слободѣ въ 1693 году. Отъ этого крестьянскаго рода Щаповыхъ отвѣтвилась впослѣдствіи „духовная линія дьячковъ и пономарей, женатыхъ большею частью на крестьянкахъ и жившихъ совершенно по крестьянски". Сознаніе своего родства съ чернымъ, рабочимъ народомъ было одною изъ важнѣйшихъ чертъ духовной физіономіи Щапова и придавало ей своеобразный отпечатокъ.
Онъ учился въ иркутской бурсѣ и иркутской духовной семинаріи, гдѣ учатся дѣти духовенства. Послѣднее часто любитъ проводить рѣзкую грань между собой и крестьянствомъ; между нимъ и народомъ существуетъ напряженное враждебное чувство. Но Щаповъ былъ изъ низшихъ слоевъ духовенства, но обильно участвующихъ въ сравнительномъ благосостояніи верховъ. Дьячки и пономари ближе къ народу. А Щаповъ былъ изъ очень бѣдной семьи пахаря- дьячка.
Въ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ развиты начала товарищеской солидарности и дисциплины; своеобразная община направляетъ жизнь закрытаго учебнаго заведенія. Въ старыхъ учебныхъ заведеніяхъ это общинное начало сказывалось ярче какъ своими положительными, такъ и отрицательными сторонами.
Товарищи Щапова по академіи, оставившіе свои воспоминанія о немъ, отмѣчаютъ нѣкоторые поступки, свидѣтельствующіе объ его индивидуалистическихъ наклонностяхъ, о протестантскихъ отклоненіяхъ отъ общаго темпа жизни. Но тутъ нѣтъ противорѣчія. Сибирскій крестьянинъ вѣчно ворчитъ по адресу общества, постоянно воюетъ противъ міра, но не выходитъ изъ него и начинаетъ энергично сопротивляться, когда затрагиваютъ общинныя начала. И Щаповъ, становясь въ разрѣзъ съ непривившимися ему формами и явленіями товарищеской жизни, долженъ былъ признать общія ея начала чѣмъ-то естественнымъ, необходимымъ, само собой подразумевающимся.
Жизнь и въ бурсѣ, и въ семинаріи была тяжелая, преподаваніе схоластическое, безпорядочное.
Въ 1852 году Щаповъ, въ числѣ „лучшихъ учениковъ", былъ отправленъ въ казанскую духовную академію. Это была тяжелая пора въ исторіи русской общественности. Съ 1848 года литература, въ которой искали выхода запросы высшаго порядка, находилось въ придавленномъ состояніи. Умеръ Бѣлинскій, пылкій и благородный темпераментъ котораго рвался наружу черезъ всѣ загородки и стѣны и заставлялъ прислушиваться и волноваться высшими интересами. Кризисъ близился. Но было жуткое переходное время.
Не замерла кабинетная научная работа. Въ области русской исторіи наиболѣе живые вопросы разрабатывались тогда славянофилами и примыкавшими къ ихъ настроенію, если не направленію, учеными. Первые русскіе историки (Шлецеръ, Карамзинъ и др.) были „государственники", т. о. ихъ интересовали политическія судьбы русскаго государства, исторія учрежденій, исторія взаимоотношеній съ сосѣдями. Народъ „безмолвствовалъ" въ историческихъ трудахъ ХVIII и первой половины XIX вѣка. Имъ не интересовались и его судьбы были скрыты за пестрымъ переплетомъ внутреннихъ и внѣшнихъ событій.
Обратиться къ изученію народной жизни, въ большинствѣ случаевъ лишенной эффектныхъ событій и бьющихъ въ глаза фактовъ, заставили причины теоретическаго и жизненнаго порядка.
Многомилліонная масса русскаго народа представляла изъ себя „рабовъ“, положеніе которыхъ заставляло скорбѣть сердца лучшихъ русскихъ людей и краснѣть просвѣщенныхъ представителей общества. Это „больное мѣсто" русский общественности должно было постоянно приковывать вниманіе. И когда накопилась достаточная сумма знаній, умѣнья наблюдать и познавать, съ знаменитаго Радищева начался рядъ лицъ, занятыхъ изученіемъ народнаго быта, народной жизни.
Та же общественная „боль" обострила и направила теоретическую мысль въ русскомъ обществѣ. Исходнымъ пунктомъ были привычные вопросы о судьбахъ государства, о политическихъ формахъ, объ исторіи и будущемъ русской государственности. Къ нимъ сталъ примыкать обострявшійся вопросъ о роли личности, приниженной и начинавшей чувствовать свою пригнетенность. И если такъ называемые „западники", отправляясь отъ настроеній и тяжкихъ условій современности, видѣли выходъ въ усвоеніи западно-европейскихъ, формъ политическаго быта, то ихъ противники-которыхъ нѣсколько односторонне назвали „славянофилами"—находили современныя злоупотребленія явленіемъ наноснымъ, случайнымъ, извращеніемъ нормальныхъ національныхъ формъ жизни.
Чтобы опредѣлить это „нормальное", „исконно- русское", надо было обратиться къ изученію исторіи. Современныя формы признавались ненормальными; ближайшее прошлое было такого же характера. Надо было опредѣлить, гдѣ же кончалось „свое", нормальное, и начиналось извращеніе. И механически, направляясь установленными взглядами, мысль устанавливала дату— реформы Петра В., котораго уже современники считали творцомъ новой Россіи и полнымъ разрушителемъ старины („однимъ словомъ, на что въ Россіи ни взгляни, все его началомъ имѣетъ" — Неплюевъ: „воскресившій аки отъ мертвыхъ Россію"— Ѳеофанъ Прокоповичъ). Это воззрѣніе, отводившее исключительную роль иниціативѣ и, волѣ одного человѣка, не могло, своею механичностью, удовлетворить научнаго отношенія къ вопросу.
Люди, болѣе научно и философски подготовленные, стали глубже изучать историческіе источники, стали въ общемъ историческомъ ходѣ искать объясненія измѣненій народной жизни. Явился вопросъ о болѣе полномъ и глубокомъ изученіи того, что считать исконно-народнымъ, настоящимъ русскимъ, что изъ себя представляетъ самъ народъ, какія формы и какой характеръ онъ могъ дать своей жизни; какъ сказался „народный духъ". И когда былъ поставленъ этотъ вопросъ, изученіе исторіи становилось уже на научную почву.
Славянофилы и писатели, примыкавшіе, по своимъ научнымъ интересамъ, къ нимъ, дали къ срединѣ XIX вѣка нѣсколько очень интересныхъ изслѣдованій народной жизни, дали, вмѣстѣ съ тѣмъ, направленіе работамъ молодыхъ ученыхъ.
Два наиболѣе оригинальныхъ русскихъ историка того времени, Костомаровъ и Щаповъ, тѣсно примыкаютъ къ этому направленію.
Основнымъ пунктомъ своей теоріи, на ряду съ началомъ „областности", „земской союзности", Щаповъ провозгласилъ „народъ, духъ народный, творящій исторію."
Еще одно обстоятельство отмѣчается біографами Щапова. Во время Севастопольской войны въ казанскую академію была перевезена богатая рукописная библіотека Соловецкаго монастыря Богатый матеріалъ по исторіи народной колонизаціи сѣвера Россіи попалъ въ руки Щапова, со свойственной ему горячностью и усидчивостью принявшагося за изученіе.
Какъ работникъ, Щаповъ зарекомендовалъ себя и въ глазахъ профессоровъ, и въ глазахъ сотоварищей. Одинъ изъ послѣднихъ разсказываетъ, что Щаповъ работалъ часовъ по 17 въ сутки, стоя за конторкой, почти не отходя. На полу отъ его ногъ образовались углубленія, и студенты совершали шуточныя паломничества, чтобы видѣть „ямы новаго столпника Афанасія"..
За сочиненіе по исторіи русскаго раскола Щаповъ былъ оставленъ при академіи, какъ бакалавръ, и въ слѣдующемъ году началъ читать курсъ русской исторіи, продолжая работы по изученію источниковъ. Послѣдніе онъ уже вводилъ въ свой курсъ, какъ матеріалъ, и частью использовалъ для ряда статей, напечатанныхъ въ „Православномъ Собесѣдникѣ", издававшемся при академіи подъ руководствомъ ректора. И въ первомъ своемъ курсѣ, къ сожалѣнію, сохранившемся лишь въ позднѣйшей обработкѣ, въ „Историческихъ очеркахъ народнаго міросозерцанія и суевѣрія", и въ статьяхъ, Щаповъ старался вскрыть реальное религіозное міросозерцаніе народа въ до-монгольскій періодъ. Исходя изъ вѣрнаго историческаго положенія, что религіозная догма не есть выраженіе религіознаго сознанія даннаго народа и данной эпохи, а лишь одинъ изъ элементовъ его, Щаповъ набрасывалъ интересную картину, которую давалъ синкретизмъ языческихъ древне-русскихъ религіозно-миѳологическихъ представленій и христіанскихъ вѣрованій. Боги русскихъ язычниковъ стали святыми русскихъ христіанъ, а вмѣстѣ съ ними остались религіозно-нравственныя представленія язычества, измѣненныя христіанской догмой, но и воздѣйствовавшія на формы усвоенія ея... Жизнь народа развивается естественно, въ условіяхъ мѣста и времени, и не можетъ быть измѣнена опредѣленными актами отдѣльныхъ лицъ или учрежденій. Это касается и духовной, и физической, матеріальной стороны народной жизни.
Главнымъ факторомъ, устроившимъ, по мнѣнію Щапова, народную жизнь, было колонизаціонное, естественно-географическое движеніе славяно-русскаго земледѣльческаго племени. Расчищая въ „черныхъ лѣсахъ" пашни, строя „починки" и деревни, народныя массы двигались, направляемыя естественно-историческими условіями. Пути движенія пролегали по долинамъ рѣкъ и рѣчекъ. Народныя массы и развѣтвлялись по ихъ теченіямъ, создавая отдѣльные, самостоятельные „міры", общины, съ тѣсной внутренней связью, но особенные отъ другихъ такихъ же „міровъ". „Міръ" устраивалъ хозяйственную жизнь общинниковъ, являлся высшимъ администраторомъ и судьей въ лицѣ „мирскаго схода" и выбиралъ свои исполнительные органы въ лицѣ „излюбленныхъ" головъ и старостъ. То же было въ городахъ у „посадскихъ людей" съ ихъ городскими сходками и выборными. Но, какъ рѣки и рѣчки сливались въ рѣчную систему, такъ и крестьянскія и посадскія колоніи соединялись въ группы, союзы „міровъ", въ волостныя, уѣздныя и областныя общины, устраивавшія свои общія дѣла при помощи волостныхъ, уѣздныхъ, областныхъ великоруссовѣтовъ,
соборовъ. И, наконецъ, всѣ области „смыкались" въ одинъ общій русскій „міръ" съ земскимъ соборомъ во главѣ. Въ исторіи „федераціи русскихъ областей" Щаповъ отмѣчалъ двѣ „послѣдовательно-преемственныя формы"—особно-областную, выразившуюся въ мѣстно-удѣльной междоусобной борьбѣ областныхъ общинъ, и соединенно-областную, завершившуюся, послѣ послѣдней борьбы областей, въ эпоху смуты, въ рѣшеніи мѣстныхъ земскихъ сборовъ—„быть въ соединеніи".
Расколъ и его исторію Щаповъ ставилъ въ тѣсную связь съ исторіей „земства". Когда наступила рѣшительная борьба между послѣднимъ и другимъ политическимъ элементомъ, въ расколѣ выразился протестъ земскихъ людей противъ разрушенія народнаго уклада жизни, ихъ оппозиція.
Безъ сомнѣнія, рисуя такую картину политической и соціально-экономической жизни народа, Щаповъ долженъ былъ сильно систематизировать матеріалъ. Историческая народная жизнь не отлилась въ законченныя учрежденія, не дала „писаннаго закона", она направлялась могучимъ, всѣмъ понятнымъ и естественнымъ обычаемъ, естественно-историческими условіями... Но также несомнѣнно, что содержаніе этого прошлаго народной жизни можетъ быть сведено въ такую картину. Обобщеніе вѣрно. Даже въ исторіи болѣе просвѣщенныхъ и политически-развитыхъ странъ, гдѣ историкъ имѣетъ дѣло съ кристаллизировавшимися учрежденіями, современными эпохѣ политическими формулами, онъ часто долженъ подмѣнять и исправлять эти формулы, ставить свои. Въ построеніяхъ Щапова можетъ быть отмѣчена разница не качественная, а количественная. Ему приходилось больше самому формулировать, давать опредѣленіе тому, что дѣйствовало безсознательно, стихійно, что достигалось эмпирически.
Щаповымъ ярко сознавалась неудовлетворительность постановки изученія русской исторіи. Ему казалось, что изученіе должно начать сызнова, пересмотрѣть всѣ вопросы.
И, вмѣстѣ съ тѣмъ, имъ должна была ощущаться недостаточность его теоретической подготовки, общихъ научныхъ знаній.
Особенно хороши статьи Щапова въ журналѣ "Вѣкъ". Это блестящая попытка, опираясь на изученіе исторіи народа, дать отвѣты на вопросы современности. Еще въ Казани, бесѣдуя со студентами, Щаповъ указывалъ на невозможность "создать что- нибудь новое или поддержать отжившее, наперекоръ историческимъ основаніямъ; даже геніальное творчество, равно какъ и самая фанатическая любовь къ старинѣ, должны волей неволей подчиняться закону исторической послѣдовательности". Надо познать потребности, инстинкты, желанія, вѣковыя исканія народа.
„А народъ выразилъ ихъ уже въ своей прожитой исторіи, выразилъ нестройно, нескладно, только лишь естественно, потому что не доставало искусственности и раціональности, той европейской раціональности, какую долженъ былъ внести въ Россію Петръ Великій. Онъ внесъ это вспомогательное, существенно-необходимое, начало нашей новой исторической жизни". Указывая на естественность самоопредѣленія, самоустроенія древняго русскаго міра", Щаповъ и современныя реформы считалъ необходимымъ начать снизу, съ организаціи сельскихъ міровъ, на началахъ исконнаго русскаго самоуправленія, и отъ нихъ уже, на тѣхъ же началахъ, продолжатъ организацію болѣе крупныхъ земскихъ единицъ и, наконецъ, центральнаго управленія.
Въ Петербургѣ съ популярнымъ, оригинальнымъ писателемъ познакомилась одна изъ симпатичнѣйшихъ женскихъ личностей, образованная, умная дѣвушка, О. И. Жемчужникова, и вышла за него замужъ. О. И. задалась миссіей помочь даровитому ученому, очень безпорядочному и несчастному въ личной жизни.
Въ 1865 году Щаповъ былъ сосланъ и поселился съ женою въ Иркутскѣ. Первое время онъ живетъ здѣсь надеждой на скорое возвращеніе и поддерживаетъ прежнія связи съ петербургскими редакціями, и лишь съ 1869 года тѣсно примыкаетъ къ мѣстной научной работѣ, въ качествѣ дѣятельнаго члена сибирскаго отдѣла географическаго общества. Его имя заняло почетное мѣсто среди мѣстныхъ научныхъ дѣятелей на ряду съ Чекановскимъ, Дыбовскимъ и др.
Нѣсколько статей въ "Извѣстіяхъ" отдѣла и въ газетѣ "Сибирь" было посвящено Щаповымъ исторіи Сибири, въ которой онъ видѣлъ продолженіе колонизаціоннаго движенія великорусскаго племени. Въ Сибири это племя пришло въ прикосновеніе съ азіатскими племенами,— и въ результатѣ сталъ создаваться новый областной типъ, „не раздѣлявшій въ одинаковой степени признаковъ обѣихъ родоначальныхъ расъ". Изученію этого новаго типа Щаповымъ были посвящены двѣ экспедиціи и рядъ статей въ „Извѣстіяхъ" отдѣла.
Жизнь Щаповыхъ въ Иркутскѣ была страшно тяжела. Они не имѣли достаточныхъ матеріальныхъ средствъ и жили на скудный заработокъ Щапова отъ изрѣдка помѣщавшихся въ столичныхъ изданіяхъ статей и Ольги Ивановны отъ небольшаго числа уроковъ.
Тяжелая жизнь сломила сначала Ольгу Ивановну, которая умерла въ 1874 году. Потерявъ своего „ангела хранителя", какъ онъ называлъ свою жену, Щаповъ прожилъ недолго. 27 февраля 1876 года онъ умеръ отъ чахотки, продолжая набрасывать программы для своихъ статей.
Щаповъ любилъ свою родину и горячо желалъ ей добра. Говорятъ, онъ разочаровался въ ней. Дѣйствительность и мечты оказались въ рѣзкомъ противорѣчіи. Но тѣ горькія, жесткія, бичующія фразы, которыя цитируются, которыя дѣйствительно срывались съ языка покойнаго писателя,—развѣ и онѣ не свидѣтельствуютъ о томъ, что горячее чувство оставалось въ немъ? Не насмѣшку и не холодную разочарованность вызвало невѣжество, эгоистичнопошлая жизнь и узость интересовъ сибирскаго общества, а сарказмъ, негодованія и призывъ къ лучшему...
...Щаповъ-сибирскій писатель не только по происхожденію, но и по своей работѣ въ ней и по той роли, какую онъ игралъ въ исторіи сибирскаго общественнаго самосознанія. Изученіе его сочиненій, которое облегчится ожидающимся ихъ изданіемъ, будетъ имѣть плодотворное значеніе не только въ научно-теоретическомъ отношеніи.
Ландарма.
****
Николай Степнякъ "Неpвы"
(Этюдъ).
Нервы... Нервы... Это прямо таки бичъ, который гнѣвный Творецъ посылаетъ на наше поколѣніе за грѣхи отцовъ. Это—эпидемія, нисколько не лучше той, отъ какой когда-то умерли всѣ первенцы въ Египтѣ.
У меня вотъ уже нѣсколько дней жестокій бронхитъ. Ставлю горчичники, натираю себя какими-то мазями, которыя очень скверно пахнутъ и очень мало помогаютъ. А у меня, вѣдь, отъ рожденія очень слабая грудь и мнѣ строго предписано никогда не простужаться.
Чортъ знаетъ, чѣмъ еще закончится эта исторія. Обѣгалъ уже всѣхъ врачей и докторовъ медицины и теперь перехожу къ профессорамъ. Совсѣмъ не хочется умирать. Я только что получилъ крупное движеніе по службѣ и на будущій годъ думаю быть столоначальникомъ. А чахоточный столоначальникъ- это иронія судьбы. Ему все равно никогда не дожить до начальника отдѣленія.
Пятыя день не играю въ винтъ, не курю. О гостяхъ и думать нечего: прежде всего потому, что я и дома еле передвигаю ноги, а во вторыхъ—запахъ всѣхъ этихъ мазей не выгонишь изъ себя и черезъ мѣсяцъ.
Мой помощникъ въ канцеляріи ничего, конечно, безъ меня не дѣлаетъ и къ моему выздоровленію накопитъ цѣлый ворохъ бумагъ. Не знаю еще, какъ такое промедленіе отзовется на наградныхъ.
И все—нервы. Нелѣпые, глупые нервы, совершенно не подходящіе къ моему чину и общественному положенію. Одинъ медикъ, между прочимъ, объясняетъ мои нервы—наслѣдственностью. Ужасно... Оказывается, что въ нашъ вѣкъ очень легко потерять всякое уваженіе къ памяти родителей. Куда-же мы придемъ, если такъ будетъ продолжаться дальше? Отчасти виноватъ, конечно, и этотъ долговязый дуракъ, племянникъ Андрея Семеныча. Въ прошлую субботу Василій Захарычъ съ Кондратіемъ Кузьмичемъ были на именинахъ у начальницы (они ужъ всегда сумѣютъ втерѣться), и нашъ винтикъ разстроился.
Ужасно это скучная исторія: цѣлый вечеръ сидѣть безъ картъ и разговаривать. Тутъ еще нечистый принесъ племянника съ разными глупыми разсказами. Въ серединѣ вечера у меня началась мигрень и я хотѣлъ по добру по здорову убраться домой, но Анна Алексѣевна оставила ужинать. Очень то мнѣ нуженъ былъ ее ужинъ на прогоркломъ маслѣ.
Сосиски съ капустой были ужасно жирны; это тоже повліяло. Мнѣ, пожалуй, вообще не слѣдуетъ ужинать. Домой пошелъ, какъ и нужно было предполагать, съ сильнѣйшей мигренью и изжогой. Морозъ выдался неимовѣрный, градусовъ до тридцати. Всю дорогу думалъ о племянникѣ и рѣшилъ, что недурно было-бы его высѣчь, чтобы не поваживать на будущее время разстраивать публику своими голодающими и тифозными. Скажите пожалуйста! Какъ будто у насъ нѣтъ подлежащихъ вѣдомствъ для тѣхъ и другихъ. Незачѣмъ позволять каждому совать носъ въ чужія дѣла.
Такъ вотъ, подхожу наконецъ къ своему крыльцу, протягиваю руку, что бы позвонить, и вижу, что у моихъ ногъ копошится какая-то дрянь. Вглядываюсь. Оказывается—маленькая собачонка, не то болонка, не то пудель, несомнѣнно изъ комнатныхъ.
Сидитъ на трехъ лапахъ, а одну подняла кверху и такъ отчаянно дрожитъ, что ее прямо всю на воздухъ подбрасываетъ. И вообразите себѣ, что мнѣ эту паршивую собачонку стало почему-то ужасно жалко.
— Ахъ ты, говорю, глупышка маленькая! Привыкла все у барыни въ муфтѣ сидѣть, такъ теперь и холодно?
Собачонка смотритъ жалобно и повизгиваетъ.
Му, разумѣется, я позвонилъ, прошелъ въ свою спальню, раздѣлся и легъ.
Все честь честью. Хотѣлъ было, по привычкѣ, почитать „Свѣтъ", да потомъ рѣшилъ, что и такъ ужe поздно. Потушилъ лампу, укрылся хорошенько одѣяломъ.
Лежу десять минутъ, пятнадцать, полчаса.
Нѣтъ, не спится. А въ головѣ такъ и звенитъ басина этого племянника:
— Представьте себѣ видъ человѣка, который заживо разлагается...
Тьфу, что-бъ тебѣ! И совсѣмъ даже не хочу представлять.
И вдругъ, знаете, вспомнилось мнѣ, что на крыльцѣ сидитъ глупая собачонка и замерзаетъ.
И такъ хорошо вспомнилось, что я даже подъ лѣвымъ глазомъ у нея маленькую подпалинку увидѣлъ.
Стучитъ объ доски: стукъ-стукъ-стукъ...
Вотъ еще исторія—хуже заживо разлагающагося. Тотъ, по крайней мѣрѣ, далеко, а эта дрянь гдѣ-то за стѣной, въ двухъ шагахъ, изволитъ на тотъ свѣтъ отправляться. Даже чудится мнѣ, что я и пискъ ее слышу.
Собакъ я вообще терпѣть не могу, потому-что отъ нихъ блохи перескакиваютъ. Другой, любитель, конечно взялъ бы ее съ крыльца, когда увидѣлъ, а мнѣ даже и въ голову это не пришло.
Начинаю дремать, и вижу, что болонка сидитъ уже у меня на кровати и тянетъ мнѣ подъ носъ свою замороженную лапу.
Вскочилъ, зажегъ спичку. Конечно, никого нѣтъ. Прислушался—тихо.
Только началъ опять дремать, слышу—визжитъ.
— Да хоть пропади ты,—думаю,—поскорѣе, несносная тварь!
Если бы зналъ, что произойдетъ такая скверность, лучше велѣлъ-бы Варварѣ взять ее съ собой на лежанку.
Лежу смирно и уснуть уже не пытаюсь. Голову разламываетъ, капустная отрыжка началась.
На пожарной каланчѣ часы забили. И сторожъ попался такой лѣнивый, ударитъ разъ и минутъ пять отдыхаетъ потомъ опять ударитъ и опять отдохнетъ. Точь въ точь, какъ на похоронахъ.
Лежу я и думаю, какъ мнѣ будетъ въ гробу лежаться, когда помру. И кажется мнѣ, что болонка будетъ сидѣть у меня на груди, показывать свою отмороженную лапу и пищать. Это до самаго второго пришествія-то! Подумайте только.
Рѣшилъ разбудить Варвару и велѣть ей принести собачонку въ комнату, да потомъ стыдно стало изъ за такихъ пустяковъ прислугу безпокоить. Она ужасно нахальная баба. Какъ разъ вообразитъ, что я пьянъ, или еще что-нибудь такое нехорошее скажетъ.
Однако, чѣмъ дальше, тѣмъ все больше у меня душа ныть начинаетъ.
Зажегъ лампу, взялся за „Свѣтъ". Тамъ тоже всякіе ужасы описываютъ: убійства, поджоги, кражи со взломомъ Утѣшили, думаю.
Бросилъ господина Комарова подъ столъ, натянулъ кое какъ брюки, надѣлъ на босую ногу калоши, накинулъ шубу и въ такомъ видѣ вышелъ на крыльцо, собачонку искать. Это въ тридцатиградусный-то морозъ!
На крыльцѣ пусто. Перегнулся черезъ перила, смотрю—лежитъ въ самомъ сугробѣ и уже не шевелится. Спустился съ крыльца, потрогалъ: совсѣмъ холодная и даже твердѣть начинаетъ.
Однако-же взялъ я ее подъ шубу, принесъ къ себѣ въ комнату и положилъ на коверъ.
Глаза на выкатъ, точно стеклянные, a хвостъ какъ она спрятала между ногъ такъ онъ тамъ и примерзъ.
Ну-съ, холодный-то воздухъ меня, по-видимому, нѣсколько въ чувство привелъ. Смотрю на мертваго пса, и соображаю, что сдѣлалъ глупость, да, кромѣ того, по всей вѣроятности—простудился.
А песъ былъ весь въ снѣгу, началъ оттаивать и на коврѣ образовалась грязная лужа. Совсѣмъ скандалъ, однимъ словомъ. Взялъ я его поскорѣе за шиворотъ и выбросилъ опять назадъ на улицу Уснулъ часа черезъ полтора и видѣлъ во снѣ такія вещи, которыя только въ сумасшедшемъ домѣ сниться могутъ. Будто бы принесъ я съ улицы не болонку, а скорбутнаго больного, а онъ продолжаетъ заживо разлагаться и съ него всякая дрянь на коверъ течетъ.
Потомъ будто-бы болонка принесла мнѣ сосиски съ капустой—Ѣшь, —говоритъ.—Это изъ меня сдѣланы.
А рядомъ стоитъ племянникъ и баситъ:
— Въ этихъ уѣздахъ недородъ повторялся уже четыре года подрядъ. Немудрено, поэтому...
Однимъ словомъ—чушь.
На другой день, конечно, бронхитъ. Коверъ тоже испорченъ. И собакъ теперь я прямо таки видѣть не могу... особенно маленькихъ...
*****
Кузнецкая липа.
Не привлекательна сибирская тайга, раскинувшаяся широкимъ поясомъ по всему сѣверу азіатскаго континента, почти отъ Урала и до береговъ Охотскаго моря. Не поражаетъ она величіемъ картинъ, не плѣнитъ взора изяществомъ формъ. Угрюмые пихтово-еловые лѣса, лишь тамъ и сямъ прерываемые участками березниковъ и осинниковъ или-же болотами, подавляютъ своимъ безконечнымъ однообразіемъ. Печать какой-то безпорядочности проглядываетъ всюду въ этихъ лѣсахъ. Рѣдко попадется значительный по размѣрамъ участокъ стройнаго, просторнаго, крупнаго лѣса, съ колоннадой толстыхъ стволовъ и широкими шатрами вѣтвей; обыкновенно-же тутъ смѣсь тѣснящихся другъ къ другу деревьевъ разныхъ размѣровъ; преобладаютъ нетолстыя, съ тощей, неправильной кроной лишь на верхушкѣ, подъ которой на стволѣ торчатъ сухіе сучья, увѣшанные сѣрыми прядями кухты или бородатаго лишайника. Тонкія жерди, съ жидкими вѣтвями, молодыхъ пихтъ и елей или сильно вытянувшіеся и изогнутые стволики березокъ невыгодно усиливаютъ густоту. Кой гдѣ выдѣляются своими толстыми стволами старые кедры; но здѣсь они совсѣмъ не похожи на тѣ роскошно развитыя деревья, которыми восхищаются въ искусственно охраняемыхъ при нѣкоторыхъ деревняхъ рощицахъ. Они не вносятъ здѣсь диссонанса въ общую картину: стволы ихъ также голы или усажены сухими сучьями и съ небольшой, обыкновенно уродливо развѣтвленной верхушкой. Тамъ и сямъ виднѣются полусгнившія, затянутыя мхомъ валежины съ „выскеромъ" или бугромъ вывороченной корнями почвы; изогнутые дугой или-же надломленные стволы осинъ съ лежащей на землѣ кроной, сохранившей еще завядшіе и почернѣвшіе листья. Вотъ трудно проходимая „ломовая грива" съ накрошенными другъ на друга стволами вырванныхъ бурей деревьевъ, а тамъ гарь съ уныло торчащими полуобгорѣлыми стволами и пнями, не успѣвшая еще затянуться молодымъ березнякомъ или осинникомъ. И все въ томъ-же родѣ безъ конца. Сосновые бора, подмѣшанные обыкновенно той-же березой и осиной, встрѣчающіеся кой гдѣ по берегамъ рѣкъ, или развитые мѣстами лѣса изъ лиственницы не даютъ рѣзкихъ контрастовъ и мало нарушаютъ общій тонъ однообразной картины.
Но не всегда лѣсная растительность Сибири имѣла такой монотонный, сѣрый колоритъ; въ давно прошедшія времена, когда человѣческая нога не попирала еще ея почвы, именно въ міоценовую эпоху третичнаго періода, были иные, много привлекательнѣе этихъ, лѣсные ландшафты. Тогда здѣсь красовались лѣса изъ вѣчно-зеленыхъ аралій, илексовъ, эукалиптовъ, миртовыхъ, чернодревниковъ (Diospyros) и другихъ деревьевъ, подмѣшанныхъ мѣстами широколиственными платанами и кленами. Были и хвойные лѣса, но изъ породъ сходныхъ лишь съ современнымъ гималайскимъ деодаромь и другими, живущими нынѣ въ Индіи. Объ этомъ съ несомнѣнностью свидѣтельствуютъ остатки всѣхъ этихъ растеній, сохранившіеся до нашего времени въ береговыхъ толщахъ р. Чулыма недалеко отъ г. Ачинска и въ др. м. Сибири. Эти остатки указываютъ также и на бывшій въ Сибири въ тѣ времена подтропическій климатъ, такъ какъ наиболѣе сходныя съ ними растенія обитаютъ въ настоящее время въ Соединенныхъ Штатахъ и тропической Америкѣ, въ южной Азіи и въ Австраліи.
Но времена прошли, климатъ измѣнился и сталъ менѣе теплымъ; всѣ эти породы исчезли съ лица земли, вымерли; мѣсто ихъ заняли другія формы. Въ послѣдовавшую затѣмъ эпоху пліоцена въ Сибири господствовали уже лѣса изъ широколиственныхъ породъ, именно кленовъ, липы, орѣшниковъ, буковъ, ясеня, граба, дуба, тюльпаннаго дерева, планеры и другихъ, отпечатки листьевъ которыхъ были найдены въ долинѣ р. Бухтармы и отчасти также около Томска. Эти широколиственные лѣса, или, какъ ихъ называютъ въ Европейской Россіи—чернолѣсье, весьма сходны съ таковыми, встрѣчающимися теперь въ Европѣ, на Кавказѣ, въ Манчжуріи и др. странахъ умѣреннаго климата. Комбинируясь съ хвойными лѣсами изъ породъ отчасти сходныхъ съ современными нашими пихтами и елями, отчасти-же близкихъ съ нѣкоторыми американскими (напр. секвойя—родственная знаменитому калифорнійскому Мамонтову дереву),—они создавали въ странѣ также иныя, нежели современныя, болѣе живописныя картины.
Но и ихъ пора миновала и они, уступая охлаждавшемуся и измѣнявшемуся въ континентальный, климату, сошли здѣсь со сцены. Нѣкоторыя, составлявшіе эти лѣса, породы тоже не дожили до нашихъ временъ, вымерли; большинство-же другихъ сохранилось лишь въ странахъ съ соотвѣтствующимъ имъ, болѣе благодатнымъ климатомъ, какъ напр. въ западной Европѣ, на Кавказѣ, въ Японіи, Китаѣ и нѣкот. мѣстахъ сѣверн. Америки. И единственно только липа, изъ всей серіи этихъ древесныхъ породъ, пережила на мѣстѣ всѣ невзгоды, скосившія ея современниковъ и влачитъ теперь въ чуждой ей обстановкѣ свое жалкое существованіе, коротая послѣдніе дни.
Сохранилась она въ ничтожномъ количествѣ лишь въ трехъ пунктахъ центральной Сибири *); одинъ изъ нихъ находится близъ г. Красноярска **), гдѣ липа уже утратила форму дерева и имѣетъ видъ жалкихъ кустовъ, состоящихъ изъ многочисленныхъ тонкихъ стволиковъ, рѣдко достигающихъ саженной высоты. Раньше, на памяти старожиловъ, она была распространена здѣсь шире и имѣла большіе размѣры; теперь- же находится, по выраженію изслѣдовавшаго ее Я. П. Прейна, при послѣдней агоніи. Другое мѣстонахожденіе—на Салаирскомъ кряжѣ ***); здѣсь липа, обитая въ смѣшанномъ пихтово-еловомъ лѣсу, сохранила еще видъ небольшого деревца, вершковъ до 2 толщиной и 2—3 сажени высотой; очень рѣдко попадаются болѣе крупные экземпляры съ искривленными, а иногда и пригнутыми къ почвѣ, стволами до 4 вершковъ въ діаметрѣ. Тутъ она тоже, по-видимому, просуществуетъ недолго.
Наконецъ третій районъ ея обитанія находится на западныхъ предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау****); онъ состоитъ изъ нѣсколькихъ небольшихъ островковъ, скученныхъ на площади верстъ въ 30—40 въ длину (по меридіану) и верстъ на 15 въ ширину. Въ этомъ, глухомъ еще пока, углу Томской губерніи, липа сохранилась несравненно лучше, чѣмъ въ предыдущихъ мѣстахъ. Хотя и тутъ она растетъ по большей части въ смѣси съ другими деревьями, напр. пихтой, березой и осиной, но нерѣдко образуетъ и почти чистыя рощицы изъ довольно крупныхъ деревьевъ (рисун. 1), достигающихъ 7—9 саж. высоты и 6 —12 вершк. въ поперечникѣ ствола; среди нихъ попадаются изрѣдка и болѣе крупные экземпляры до 12 саж. выс. и 4—5 четвертей въ діаметрѣ комля (рисун. 2), а по разсказамъ обывателей бываютъ и великаны со стволами—до 11/2 арш. толщины. Обильное потомство, производимое ею здѣсь какъ при помощи сѣмянъ, такъ и отводковъ, а также и нѣкоторая приспособленность къ существующимъ физико- географическимъ условіямъ, выразившаяся въ кой-какихъ особенностяхъ ея анатомическаго строенія,—указываютъ на усиленное стремленіе этого дерева отстоять тутъ свое существованіе.
Эти липовыя рощицы изъ стройныхъ деревьевъ съ яркой зеленью листвы, усѣянныхъ съ половины лѣта массой хотя и не блестящихъ, но зато душистыхъ цвѣтковъ, вносить въ ландшафтъ нѣчто своеобразное, не вполнѣ гармонирующее съ остальной, преобладающей въ этихъ мѣстахъ, тайгой. Эта особенность выступаетъ еще рѣзче, если приглядѣться попристальнѣе къ остальнымъ растеніямъ, составляющимъ травянистый покровъ въ этихъ лѣскахъ, а также и по сосѣдству съ ними. Среди нихъ наблюдатель съ удивленіемъ замѣчаетъ немало (около двухъ десятковъ) такихъ травъ, которыя, также какъ и липа, являются необычными для Сибири, но широко распространенными въ чернолѣсьѣ Европы или крайняго востока Азіи. Такъ напр. тутъ въ обиліи встрѣчается копытень (Asarum europaeum), подлѣсникъ (Sanicula euro- раеа) и нѣк. др. растенія, совершенно отсутствующія во всей остальной Сибири, но обыкновенныя въ Европѣ; не рѣдокъ тутъ пахучекоренникъ (Osmorhiza amurensis), обитающій, кромѣ этого пункта, только въ Манчжуріи и Амурскомъ краѣ. Есть нѣсколько растеній общихъ этимъ отдаленнымъ областямъ, т. е. Европѣ и крайнему востоку Азіи; наконецъ замѣчаются и такія, напр. папоротникъ Aspidium aculeatum, который кромѣ указанныхъ областей, встрѣчается спорадически еще въ Малой Азіи, сѣверной и южной Африкѣ, въ сѣверн. и тропической Америкѣ, въ Новой Голландіи, Новой Зеландіи и на нѣк. другихъ островахъ Австраліи. Такое островное нахожденіе растенія въ разныхъ частяхъ свѣта и въ весьма различныхъ климатахъ—фактъ рѣдкій и замѣчательный, наводящій на размышленіе; объяснить такое распространеніе растенія несомнѣнно дикаго, т. е. не культурнаго и не сорнаго, при современныхъ, существующихъ на землѣ условіяхъ, невозможно; но оно становится понятнымъ, если принять, согласно съ указаніями геологическихъ фактовъ, сплошное, широкое распространеніе такихъ растеній по земной поверхности въ прежнее время.
И такъ на Кузнецкомъ Алатау разыгрывается теперь послѣдній актъ минувшей исторіи Сибирской флоры; тамъ мы можемъ еще созерцать ея послѣднихъ представителей въ лицѣ липы съ указанными ея спутниками, но по-видимому не надолго. Тѣхъ усилій, которыя затрачиваются этимъ деревомъ на сохраненіе своего существованія при медленно измѣняющихся условіяхъ, не хватитъ, когда этихъ глухихъ мѣстъ коснется современная человѣческая культура. А между тѣмъ она уже надвигается и властно требуетъ себѣ мѣста. Подъ ея неумолимой рукой быстро рѣдѣютъ лѣса, нарушаются бывшія условія страны, при которыхъ еще теплилась жизнь ея аборигеновъ, и эта жизнь мало-по-малу загаснетъ; безмолвно погибнетъ липа съ своими сотоварищами, подобно тому, какъ рано или поздно сойдетъ тутъ со сцены и блуждавшій по ея лѣсамъ инородецъ-телеингитъ.
П. Крыловъ.
_______________
*)Правда липа встрѣчается еще и на окраинахъ Сибири, именно на дальнемъ востокѣ и въ западныхъ частяхъ Тобольской губерніи, но въ первомъ мѣстѣ, т. е. въ Амурскомъ и Уссурійскомъ краяхъ, она совмѣстно съ другими широколиственными деревьями, образуетъ сѣверную окраину лѣсовъ, развитыхъ далѣе на югъ въ предѣлахъ Манчжуріи и Китая. На западѣ-же Сибири районъ ея обитанія, вдающійся острымъ клиномъ въ предѣлы Тобольской губерніи, составляетъ также непосредственное продолженіе современной сплошной европейской области ея распространенія. Тамъ и здѣсь
она находится при условіяхъ климата менѣе континентальнаго.
**) Въ 16 верстахъ юго-западнѣе Красноярска—на склонахъ невысокаго
хребта, ограничивающаго лѣвый берегъ р. Енисея, между
рѣчками Караульной и Минжулемъ, что противъ устья р. Маны.
***) Въ Кузнецкомъ уѣздѣ Томской губ., по р. Удѣ—притоку р. Тогула, впадающаго въ р. Чумышъ; верстахъ въ 20 на сѣверо- востокъ отъ д. Глазыриной и верстахъ въ 50 сѣвернѣе с. Тогульскаго.
****) Верстахъ въ 50 южнѣе г. Кузнецка и въ 10 —15 верст. отъ д. Кузедеевой, по правымъ притокамъ р. Кондомы—Тешу, Мигашу и нѣк. др.
****
Изъ „міра отверженныхъ".
Къ рисунку „Бродяги".
Осень. Листья уже осыпались и деревья плачевно протягиваютъ свои голыя вѣтки къ хмурому, дождливому небу, что, какъ сѣрое покрывало, низко нависло надъ еще болѣе сѣрой землей.
Изъ кустовъ прибрежнаго ивняка на песчаный бугоръ, торопливымъ шагомъ, выходятъ двое:— Одинъ—высокій и тощій, съ сѣдыми усами, въ шапкѣ и крестьянскомъ армякѣ, по походкѣ и выправкѣ, видимо—бывшій солдатъ. Другой—пониже, въ какой-то коротенькой женской кацавейкѣ—на головѣ у него истрепанный городской картузикъ, ноги въ опоркахъ, у пояса позвякиваетъ привязанный котелокъ Лицо его, подвязанное грязнымъ платкомъ, носитъ слѣды боевыхъ знаковъ. Отъ сырого, пронзительнаго вѣтра съ рѣки онъ глубоко запряталъ руки въ рукава кацавейки и устало шагаетъ за товарищемъ, по временамъ тоскливо поглядывая впередъ.
„Чортъ-бы его дралъ, это село"... ругается онъ:— почитай цѣлый день идемъ, а его все еще не видать... Отощалъ, братъ, совсѣмъ"... добавляетъ онъ, обращаясь къ товарищу.
Высокій ничего не говоритъ, пристально вглядываясь въ зарѣчную даль своими зоркими ястребиными глазами
Проходятъ въ полномъ молчаніи еще съ полверсты. „Ну, теперь скоро и конецъ",—восклицаетъ высокій... .Видишь —вонъ налѣво... за косой чернѣется —это и есть деревня. А тамъ, братъ, у меня знакомые есть, обязательно ночевать хоть въ баню да пустятъ. Можно будетъ и „пострѣлять", народъ тутъ добрый —шанегъ и кораликовъ надаютъ—ѣшь не хочу... Смотри, только не вздумай сбаловать, какъ вчера"—добавляетъ онъ, строго смотря на товарища
Спутникъ его въ отвѣтъ что-то недовольно ворчитъ себѣ подъ носъ. Послѣднія слова товарища пришлись ему очевидно не совсѣмъ по душѣ, вызвавъ непріятныя воспоминанія. На послѣднемъ станкѣ онъ, дѣйствительно, „пошалилъ", стащивъ съ оплота сушившуюся мужицкую рубаху, въ чаяніи продать ее гдѣ либо по пути, но зоркій глазъ бабы замѣтилъ его продѣлку и сбѣжавшіеся на ея крикъ мужички здорово таки накостыляли ему шею.
Но какъ было и не стащить, когда вотъ уже двѣ недѣли въ карманѣ ни гроша, а тутъ, какъ на зло, дождь, слякоть. Съ холоду такъ и подмываетъ выпить. Въ животѣ тоже не ахти-какъ туго —подаютъ нынче бродягамъ плохо. Опорки— совсѣмъ разваливаются.
"Тебѣ-то черту ничего..."—думаетъ онъ, съ завистью глядя на крѣпкіе бродни товарища. „Ишь, лопать-то какую справилъ—баринъ бариномъ идетъ... Самъ поди тоже обобралъ какого нибудь челдона" (мужика).
При этомъ мысли его внезапно принимаютъ другой оборотъ. „Эхъ! теперь челдонье-то"...—думаетъ онъ. "Нажрались, поди, горячаго въ упоръ, да и валяются по печамъ"... При воспоминаніи о горячемъ, желудокъ его судорожно сжимается и онъ, чтобы заглушить голодъ, начинаетъ рыться въ карманахъ въ надеждѣ отыскать хотя немного махорки, но, вспомнивъ, что карманы пусты и махорка давно уже вся докурена, онъ злобно плюетъ и громко выругавшись, спѣшитъ нагнать ушедшаго довольно далеко впередъ товарища.
*****
Къ рисункамъ.
Иркутская духовная семинарія.
Зданіе семинаріи находится въ сѣверо-восточной части города Иркутска, то есть въ той части, которую пощадилъ большой пожаръ 1879 года, уничтожившій чуть не половину города,—значитъ зданіе это остается и теперь въ томъ видѣ, въ какомъ оно было тогда, когда въ немъ учился Щаповъ. Благодаря тому же обстоятельству библіотека семинаріи одна изъ самыхъ большихъ библіотекъ въ городѣ; тогда какъ всѣ другія библіотеки сгорѣли, семинарская уцелѣла; по этому ни въ какой другой иркутской библіотекѣ нѣтъ такихъ старинныхъ книгъ, какъ въ семинарской; въ родѣ, напримѣръ, библіи братьевъ Лихуды. Изъ иркутской семинаріи вышло нѣсколько сибирскихъ писателей: А. П. Щаповъ, М. В. Загоскинъ и С. С. Шашковъ, Жизнь въ иркутской семинаріи во время, приблизительное ко времени Щапова, описана М. В. Загоскинымъ въ его романѣ „Магистръ". И самъ Щаповъ также напечаталъ небольшую замѣтку о семинарской жизни; эта замѣтка была напечатана въ газетѣ „Искра" за тотъ годъ, когда Щаповъ жилъ въ Петербургѣ. Щаповъ описываетъ, какъ семинаристы проводили время и какія у нихъ были радости; разсказываетъ, какъ они получали изъ родительскихъ домовъ домашнія печенья, дѣлились ими съ товарищами и чтобы какъ можно дольше продлить наслажденіе, какъ они медленно ихъ уничтожали, обкусывая ихъ края замысловатыми фестонами. Потомъ онъ описываетъ, какъ весной семинаристы уѣзжали на вакаціи. Изъ верхо-ленскаго края, съ родины Щапова пріѣзжалъ дьячокъ и забиралъ верхо-ленскихъ дѣтей; изъ Иркутска до родной деревни они ѣхали въ телѣгѣ; на пути имъ приходилось переѣзжать въ бродъ черезъ большую рѣку; они принимали мѣры, чтобы во время переправы не подмочить вещей, боялись, чтобы вода не перевернула телѣгу, а переѣхавъ на другой берегъ благополучно вмѣстѣ съ дьячкомъ пѣли пѣснь евреевъ на берегу Чернаго моря: „Помощникъ и Покровитель, бысть мнѣ во спасеніе".
Двухслойный pdf (текст под картинками)
https://yadi.sk/i/qArvOn1KrHGZL
pdf без маски (текст и картинки)
https://yadi.sk/i/3a74gIqorHGco
Двухслойный pdf (текст поверх картинок)
https://yadi.sk/i/sRlLNsM9rHGbN
А. П. Щаповъ былъ по происхожденію коренной сибирякъ. Предокъ его, крестьянинъ Щаповъ, поселился въ только что возникавшей Ангинской слободѣ въ 1693 году. Отъ этого крестьянскаго рода Щаповыхъ отвѣтвилась впослѣдствіи „духовная линія дьячковъ и пономарей, женатыхъ большею частью на крестьянкахъ и жившихъ совершенно по крестьянски". Сознаніе своего родства съ чернымъ, рабочимъ народомъ было одною изъ важнѣйшихъ чертъ духовной физіономіи Щапова и придавало ей своеобразный отпечатокъ.
Онъ учился въ иркутской бурсѣ и иркутской духовной семинаріи, гдѣ учатся дѣти духовенства. Послѣднее часто любитъ проводить рѣзкую грань между собой и крестьянствомъ; между нимъ и народомъ существуетъ напряженное враждебное чувство. Но Щаповъ былъ изъ низшихъ слоевъ духовенства, но обильно участвующихъ въ сравнительномъ благосостояніи верховъ. Дьячки и пономари ближе къ народу. А Щаповъ былъ изъ очень бѣдной семьи пахаря- дьячка.
Въ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ развиты начала товарищеской солидарности и дисциплины; своеобразная община направляетъ жизнь закрытаго учебнаго заведенія. Въ старыхъ учебныхъ заведеніяхъ это общинное начало сказывалось ярче какъ своими положительными, такъ и отрицательными сторонами.
Товарищи Щапова по академіи, оставившіе свои воспоминанія о немъ, отмѣчаютъ нѣкоторые поступки, свидѣтельствующіе объ его индивидуалистическихъ наклонностяхъ, о протестантскихъ отклоненіяхъ отъ общаго темпа жизни. Но тутъ нѣтъ противорѣчія. Сибирскій крестьянинъ вѣчно ворчитъ по адресу общества, постоянно воюетъ противъ міра, но не выходитъ изъ него и начинаетъ энергично сопротивляться, когда затрагиваютъ общинныя начала. И Щаповъ, становясь въ разрѣзъ съ непривившимися ему формами и явленіями товарищеской жизни, долженъ былъ признать общія ея начала чѣмъ-то естественнымъ, необходимымъ, само собой подразумевающимся.
Жизнь и въ бурсѣ, и въ семинаріи была тяжелая, преподаваніе схоластическое, безпорядочное.
Въ 1852 году Щаповъ, въ числѣ „лучшихъ учениковъ", былъ отправленъ въ казанскую духовную академію. Это была тяжелая пора въ исторіи русской общественности. Съ 1848 года литература, въ которой искали выхода запросы высшаго порядка, находилось въ придавленномъ состояніи. Умеръ Бѣлинскій, пылкій и благородный темпераментъ котораго рвался наружу черезъ всѣ загородки и стѣны и заставлялъ прислушиваться и волноваться высшими интересами. Кризисъ близился. Но было жуткое переходное время.
Не замерла кабинетная научная работа. Въ области русской исторіи наиболѣе живые вопросы разрабатывались тогда славянофилами и примыкавшими къ ихъ настроенію, если не направленію, учеными. Первые русскіе историки (Шлецеръ, Карамзинъ и др.) были „государственники", т. о. ихъ интересовали политическія судьбы русскаго государства, исторія учрежденій, исторія взаимоотношеній съ сосѣдями. Народъ „безмолвствовалъ" въ историческихъ трудахъ ХVIII и первой половины XIX вѣка. Имъ не интересовались и его судьбы были скрыты за пестрымъ переплетомъ внутреннихъ и внѣшнихъ событій.
Обратиться къ изученію народной жизни, въ большинствѣ случаевъ лишенной эффектныхъ событій и бьющихъ въ глаза фактовъ, заставили причины теоретическаго и жизненнаго порядка.
Многомилліонная масса русскаго народа представляла изъ себя „рабовъ“, положеніе которыхъ заставляло скорбѣть сердца лучшихъ русскихъ людей и краснѣть просвѣщенныхъ представителей общества. Это „больное мѣсто" русский общественности должно было постоянно приковывать вниманіе. И когда накопилась достаточная сумма знаній, умѣнья наблюдать и познавать, съ знаменитаго Радищева начался рядъ лицъ, занятыхъ изученіемъ народнаго быта, народной жизни.
Та же общественная „боль" обострила и направила теоретическую мысль въ русскомъ обществѣ. Исходнымъ пунктомъ были привычные вопросы о судьбахъ государства, о политическихъ формахъ, объ исторіи и будущемъ русской государственности. Къ нимъ сталъ примыкать обострявшійся вопросъ о роли личности, приниженной и начинавшей чувствовать свою пригнетенность. И если такъ называемые „западники", отправляясь отъ настроеній и тяжкихъ условій современности, видѣли выходъ въ усвоеніи западно-европейскихъ, формъ политическаго быта, то ихъ противники-которыхъ нѣсколько односторонне назвали „славянофилами"—находили современныя злоупотребленія явленіемъ наноснымъ, случайнымъ, извращеніемъ нормальныхъ національныхъ формъ жизни.
Чтобы опредѣлить это „нормальное", „исконно- русское", надо было обратиться къ изученію исторіи. Современныя формы признавались ненормальными; ближайшее прошлое было такого же характера. Надо было опредѣлить, гдѣ же кончалось „свое", нормальное, и начиналось извращеніе. И механически, направляясь установленными взглядами, мысль устанавливала дату— реформы Петра В., котораго уже современники считали творцомъ новой Россіи и полнымъ разрушителемъ старины („однимъ словомъ, на что въ Россіи ни взгляни, все его началомъ имѣетъ" — Неплюевъ: „воскресившій аки отъ мертвыхъ Россію"— Ѳеофанъ Прокоповичъ). Это воззрѣніе, отводившее исключительную роль иниціативѣ и, волѣ одного человѣка, не могло, своею механичностью, удовлетворить научнаго отношенія къ вопросу.
Люди, болѣе научно и философски подготовленные, стали глубже изучать историческіе источники, стали въ общемъ историческомъ ходѣ искать объясненія измѣненій народной жизни. Явился вопросъ о болѣе полномъ и глубокомъ изученіи того, что считать исконно-народнымъ, настоящимъ русскимъ, что изъ себя представляетъ самъ народъ, какія формы и какой характеръ онъ могъ дать своей жизни; какъ сказался „народный духъ". И когда былъ поставленъ этотъ вопросъ, изученіе исторіи становилось уже на научную почву.
Славянофилы и писатели, примыкавшіе, по своимъ научнымъ интересамъ, къ нимъ, дали къ срединѣ XIX вѣка нѣсколько очень интересныхъ изслѣдованій народной жизни, дали, вмѣстѣ съ тѣмъ, направленіе работамъ молодыхъ ученыхъ.
Два наиболѣе оригинальныхъ русскихъ историка того времени, Костомаровъ и Щаповъ, тѣсно примыкаютъ къ этому направленію.
Основнымъ пунктомъ своей теоріи, на ряду съ началомъ „областности", „земской союзности", Щаповъ провозгласилъ „народъ, духъ народный, творящій исторію."
Еще одно обстоятельство отмѣчается біографами Щапова. Во время Севастопольской войны въ казанскую академію была перевезена богатая рукописная библіотека Соловецкаго монастыря Богатый матеріалъ по исторіи народной колонизаціи сѣвера Россіи попалъ въ руки Щапова, со свойственной ему горячностью и усидчивостью принявшагося за изученіе.
Какъ работникъ, Щаповъ зарекомендовалъ себя и въ глазахъ профессоровъ, и въ глазахъ сотоварищей. Одинъ изъ послѣднихъ разсказываетъ, что Щаповъ работалъ часовъ по 17 въ сутки, стоя за конторкой, почти не отходя. На полу отъ его ногъ образовались углубленія, и студенты совершали шуточныя паломничества, чтобы видѣть „ямы новаго столпника Афанасія"..
За сочиненіе по исторіи русскаго раскола Щаповъ былъ оставленъ при академіи, какъ бакалавръ, и въ слѣдующемъ году началъ читать курсъ русской исторіи, продолжая работы по изученію источниковъ. Послѣдніе онъ уже вводилъ въ свой курсъ, какъ матеріалъ, и частью использовалъ для ряда статей, напечатанныхъ въ „Православномъ Собесѣдникѣ", издававшемся при академіи подъ руководствомъ ректора. И въ первомъ своемъ курсѣ, къ сожалѣнію, сохранившемся лишь въ позднѣйшей обработкѣ, въ „Историческихъ очеркахъ народнаго міросозерцанія и суевѣрія", и въ статьяхъ, Щаповъ старался вскрыть реальное религіозное міросозерцаніе народа въ до-монгольскій періодъ. Исходя изъ вѣрнаго историческаго положенія, что религіозная догма не есть выраженіе религіознаго сознанія даннаго народа и данной эпохи, а лишь одинъ изъ элементовъ его, Щаповъ набрасывалъ интересную картину, которую давалъ синкретизмъ языческихъ древне-русскихъ религіозно-миѳологическихъ представленій и христіанскихъ вѣрованій. Боги русскихъ язычниковъ стали святыми русскихъ христіанъ, а вмѣстѣ съ ними остались религіозно-нравственныя представленія язычества, измѣненныя христіанской догмой, но и воздѣйствовавшія на формы усвоенія ея... Жизнь народа развивается естественно, въ условіяхъ мѣста и времени, и не можетъ быть измѣнена опредѣленными актами отдѣльныхъ лицъ или учрежденій. Это касается и духовной, и физической, матеріальной стороны народной жизни.
Главнымъ факторомъ, устроившимъ, по мнѣнію Щапова, народную жизнь, было колонизаціонное, естественно-географическое движеніе славяно-русскаго земледѣльческаго племени. Расчищая въ „черныхъ лѣсахъ" пашни, строя „починки" и деревни, народныя массы двигались, направляемыя естественно-историческими условіями. Пути движенія пролегали по долинамъ рѣкъ и рѣчекъ. Народныя массы и развѣтвлялись по ихъ теченіямъ, создавая отдѣльные, самостоятельные „міры", общины, съ тѣсной внутренней связью, но особенные отъ другихъ такихъ же „міровъ". „Міръ" устраивалъ хозяйственную жизнь общинниковъ, являлся высшимъ администраторомъ и судьей въ лицѣ „мирскаго схода" и выбиралъ свои исполнительные органы въ лицѣ „излюбленныхъ" головъ и старостъ. То же было въ городахъ у „посадскихъ людей" съ ихъ городскими сходками и выборными. Но, какъ рѣки и рѣчки сливались въ рѣчную систему, такъ и крестьянскія и посадскія колоніи соединялись въ группы, союзы „міровъ", въ волостныя, уѣздныя и областныя общины, устраивавшія свои общія дѣла при помощи волостныхъ, уѣздныхъ, областныхъ великоруссовѣтовъ,
соборовъ. И, наконецъ, всѣ области „смыкались" въ одинъ общій русскій „міръ" съ земскимъ соборомъ во главѣ. Въ исторіи „федераціи русскихъ областей" Щаповъ отмѣчалъ двѣ „послѣдовательно-преемственныя формы"—особно-областную, выразившуюся въ мѣстно-удѣльной междоусобной борьбѣ областныхъ общинъ, и соединенно-областную, завершившуюся, послѣ послѣдней борьбы областей, въ эпоху смуты, въ рѣшеніи мѣстныхъ земскихъ сборовъ—„быть въ соединеніи".
Расколъ и его исторію Щаповъ ставилъ въ тѣсную связь съ исторіей „земства". Когда наступила рѣшительная борьба между послѣднимъ и другимъ политическимъ элементомъ, въ расколѣ выразился протестъ земскихъ людей противъ разрушенія народнаго уклада жизни, ихъ оппозиція.
Безъ сомнѣнія, рисуя такую картину политической и соціально-экономической жизни народа, Щаповъ долженъ былъ сильно систематизировать матеріалъ. Историческая народная жизнь не отлилась въ законченныя учрежденія, не дала „писаннаго закона", она направлялась могучимъ, всѣмъ понятнымъ и естественнымъ обычаемъ, естественно-историческими условіями... Но также несомнѣнно, что содержаніе этого прошлаго народной жизни можетъ быть сведено въ такую картину. Обобщеніе вѣрно. Даже въ исторіи болѣе просвѣщенныхъ и политически-развитыхъ странъ, гдѣ историкъ имѣетъ дѣло съ кристаллизировавшимися учрежденіями, современными эпохѣ политическими формулами, онъ часто долженъ подмѣнять и исправлять эти формулы, ставить свои. Въ построеніяхъ Щапова можетъ быть отмѣчена разница не качественная, а количественная. Ему приходилось больше самому формулировать, давать опредѣленіе тому, что дѣйствовало безсознательно, стихійно, что достигалось эмпирически.
Щаповымъ ярко сознавалась неудовлетворительность постановки изученія русской исторіи. Ему казалось, что изученіе должно начать сызнова, пересмотрѣть всѣ вопросы.
И, вмѣстѣ съ тѣмъ, имъ должна была ощущаться недостаточность его теоретической подготовки, общихъ научныхъ знаній.
Особенно хороши статьи Щапова въ журналѣ "Вѣкъ". Это блестящая попытка, опираясь на изученіе исторіи народа, дать отвѣты на вопросы современности. Еще въ Казани, бесѣдуя со студентами, Щаповъ указывалъ на невозможность "создать что- нибудь новое или поддержать отжившее, наперекоръ историческимъ основаніямъ; даже геніальное творчество, равно какъ и самая фанатическая любовь къ старинѣ, должны волей неволей подчиняться закону исторической послѣдовательности". Надо познать потребности, инстинкты, желанія, вѣковыя исканія народа.
„А народъ выразилъ ихъ уже въ своей прожитой исторіи, выразилъ нестройно, нескладно, только лишь естественно, потому что не доставало искусственности и раціональности, той европейской раціональности, какую долженъ былъ внести въ Россію Петръ Великій. Онъ внесъ это вспомогательное, существенно-необходимое, начало нашей новой исторической жизни". Указывая на естественность самоопредѣленія, самоустроенія древняго русскаго міра", Щаповъ и современныя реформы считалъ необходимымъ начать снизу, съ организаціи сельскихъ міровъ, на началахъ исконнаго русскаго самоуправленія, и отъ нихъ уже, на тѣхъ же началахъ, продолжатъ организацію болѣе крупныхъ земскихъ единицъ и, наконецъ, центральнаго управленія.
Въ Петербургѣ съ популярнымъ, оригинальнымъ писателемъ познакомилась одна изъ симпатичнѣйшихъ женскихъ личностей, образованная, умная дѣвушка, О. И. Жемчужникова, и вышла за него замужъ. О. И. задалась миссіей помочь даровитому ученому, очень безпорядочному и несчастному въ личной жизни.
Въ 1865 году Щаповъ былъ сосланъ и поселился съ женою въ Иркутскѣ. Первое время онъ живетъ здѣсь надеждой на скорое возвращеніе и поддерживаетъ прежнія связи съ петербургскими редакціями, и лишь съ 1869 года тѣсно примыкаетъ къ мѣстной научной работѣ, въ качествѣ дѣятельнаго члена сибирскаго отдѣла географическаго общества. Его имя заняло почетное мѣсто среди мѣстныхъ научныхъ дѣятелей на ряду съ Чекановскимъ, Дыбовскимъ и др.
Нѣсколько статей въ "Извѣстіяхъ" отдѣла и въ газетѣ "Сибирь" было посвящено Щаповымъ исторіи Сибири, въ которой онъ видѣлъ продолженіе колонизаціоннаго движенія великорусскаго племени. Въ Сибири это племя пришло въ прикосновеніе съ азіатскими племенами,— и въ результатѣ сталъ создаваться новый областной типъ, „не раздѣлявшій въ одинаковой степени признаковъ обѣихъ родоначальныхъ расъ". Изученію этого новаго типа Щаповымъ были посвящены двѣ экспедиціи и рядъ статей въ „Извѣстіяхъ" отдѣла.
Жизнь Щаповыхъ въ Иркутскѣ была страшно тяжела. Они не имѣли достаточныхъ матеріальныхъ средствъ и жили на скудный заработокъ Щапова отъ изрѣдка помѣщавшихся въ столичныхъ изданіяхъ статей и Ольги Ивановны отъ небольшаго числа уроковъ.
Тяжелая жизнь сломила сначала Ольгу Ивановну, которая умерла въ 1874 году. Потерявъ своего „ангела хранителя", какъ онъ называлъ свою жену, Щаповъ прожилъ недолго. 27 февраля 1876 года онъ умеръ отъ чахотки, продолжая набрасывать программы для своихъ статей.
Щаповъ любилъ свою родину и горячо желалъ ей добра. Говорятъ, онъ разочаровался въ ней. Дѣйствительность и мечты оказались въ рѣзкомъ противорѣчіи. Но тѣ горькія, жесткія, бичующія фразы, которыя цитируются, которыя дѣйствительно срывались съ языка покойнаго писателя,—развѣ и онѣ не свидѣтельствуютъ о томъ, что горячее чувство оставалось въ немъ? Не насмѣшку и не холодную разочарованность вызвало невѣжество, эгоистичнопошлая жизнь и узость интересовъ сибирскаго общества, а сарказмъ, негодованія и призывъ къ лучшему...
...Щаповъ-сибирскій писатель не только по происхожденію, но и по своей работѣ въ ней и по той роли, какую онъ игралъ въ исторіи сибирскаго общественнаго самосознанія. Изученіе его сочиненій, которое облегчится ожидающимся ихъ изданіемъ, будетъ имѣть плодотворное значеніе не только въ научно-теоретическомъ отношеніи.
Ландарма.
****
Николай Степнякъ "Неpвы"
(Этюдъ).
Нервы... Нервы... Это прямо таки бичъ, который гнѣвный Творецъ посылаетъ на наше поколѣніе за грѣхи отцовъ. Это—эпидемія, нисколько не лучше той, отъ какой когда-то умерли всѣ первенцы въ Египтѣ.
У меня вотъ уже нѣсколько дней жестокій бронхитъ. Ставлю горчичники, натираю себя какими-то мазями, которыя очень скверно пахнутъ и очень мало помогаютъ. А у меня, вѣдь, отъ рожденія очень слабая грудь и мнѣ строго предписано никогда не простужаться.
Чортъ знаетъ, чѣмъ еще закончится эта исторія. Обѣгалъ уже всѣхъ врачей и докторовъ медицины и теперь перехожу къ профессорамъ. Совсѣмъ не хочется умирать. Я только что получилъ крупное движеніе по службѣ и на будущій годъ думаю быть столоначальникомъ. А чахоточный столоначальникъ- это иронія судьбы. Ему все равно никогда не дожить до начальника отдѣленія.
Пятыя день не играю въ винтъ, не курю. О гостяхъ и думать нечего: прежде всего потому, что я и дома еле передвигаю ноги, а во вторыхъ—запахъ всѣхъ этихъ мазей не выгонишь изъ себя и черезъ мѣсяцъ.
Мой помощникъ въ канцеляріи ничего, конечно, безъ меня не дѣлаетъ и къ моему выздоровленію накопитъ цѣлый ворохъ бумагъ. Не знаю еще, какъ такое промедленіе отзовется на наградныхъ.
И все—нервы. Нелѣпые, глупые нервы, совершенно не подходящіе къ моему чину и общественному положенію. Одинъ медикъ, между прочимъ, объясняетъ мои нервы—наслѣдственностью. Ужасно... Оказывается, что въ нашъ вѣкъ очень легко потерять всякое уваженіе къ памяти родителей. Куда-же мы придемъ, если такъ будетъ продолжаться дальше? Отчасти виноватъ, конечно, и этотъ долговязый дуракъ, племянникъ Андрея Семеныча. Въ прошлую субботу Василій Захарычъ съ Кондратіемъ Кузьмичемъ были на именинахъ у начальницы (они ужъ всегда сумѣютъ втерѣться), и нашъ винтикъ разстроился.
Ужасно это скучная исторія: цѣлый вечеръ сидѣть безъ картъ и разговаривать. Тутъ еще нечистый принесъ племянника съ разными глупыми разсказами. Въ серединѣ вечера у меня началась мигрень и я хотѣлъ по добру по здорову убраться домой, но Анна Алексѣевна оставила ужинать. Очень то мнѣ нуженъ былъ ее ужинъ на прогоркломъ маслѣ.
Сосиски съ капустой были ужасно жирны; это тоже повліяло. Мнѣ, пожалуй, вообще не слѣдуетъ ужинать. Домой пошелъ, какъ и нужно было предполагать, съ сильнѣйшей мигренью и изжогой. Морозъ выдался неимовѣрный, градусовъ до тридцати. Всю дорогу думалъ о племянникѣ и рѣшилъ, что недурно было-бы его высѣчь, чтобы не поваживать на будущее время разстраивать публику своими голодающими и тифозными. Скажите пожалуйста! Какъ будто у насъ нѣтъ подлежащихъ вѣдомствъ для тѣхъ и другихъ. Незачѣмъ позволять каждому совать носъ въ чужія дѣла.
Такъ вотъ, подхожу наконецъ къ своему крыльцу, протягиваю руку, что бы позвонить, и вижу, что у моихъ ногъ копошится какая-то дрянь. Вглядываюсь. Оказывается—маленькая собачонка, не то болонка, не то пудель, несомнѣнно изъ комнатныхъ.
Сидитъ на трехъ лапахъ, а одну подняла кверху и такъ отчаянно дрожитъ, что ее прямо всю на воздухъ подбрасываетъ. И вообразите себѣ, что мнѣ эту паршивую собачонку стало почему-то ужасно жалко.
— Ахъ ты, говорю, глупышка маленькая! Привыкла все у барыни въ муфтѣ сидѣть, такъ теперь и холодно?
Собачонка смотритъ жалобно и повизгиваетъ.
Му, разумѣется, я позвонилъ, прошелъ въ свою спальню, раздѣлся и легъ.
Все честь честью. Хотѣлъ было, по привычкѣ, почитать „Свѣтъ", да потомъ рѣшилъ, что и такъ ужe поздно. Потушилъ лампу, укрылся хорошенько одѣяломъ.
Лежу десять минутъ, пятнадцать, полчаса.
Нѣтъ, не спится. А въ головѣ такъ и звенитъ басина этого племянника:
— Представьте себѣ видъ человѣка, который заживо разлагается...
Тьфу, что-бъ тебѣ! И совсѣмъ даже не хочу представлять.
И вдругъ, знаете, вспомнилось мнѣ, что на крыльцѣ сидитъ глупая собачонка и замерзаетъ.
И такъ хорошо вспомнилось, что я даже подъ лѣвымъ глазомъ у нея маленькую подпалинку увидѣлъ.
Стучитъ объ доски: стукъ-стукъ-стукъ...
Вотъ еще исторія—хуже заживо разлагающагося. Тотъ, по крайней мѣрѣ, далеко, а эта дрянь гдѣ-то за стѣной, въ двухъ шагахъ, изволитъ на тотъ свѣтъ отправляться. Даже чудится мнѣ, что я и пискъ ее слышу.
Собакъ я вообще терпѣть не могу, потому-что отъ нихъ блохи перескакиваютъ. Другой, любитель, конечно взялъ бы ее съ крыльца, когда увидѣлъ, а мнѣ даже и въ голову это не пришло.
Начинаю дремать, и вижу, что болонка сидитъ уже у меня на кровати и тянетъ мнѣ подъ носъ свою замороженную лапу.
Вскочилъ, зажегъ спичку. Конечно, никого нѣтъ. Прислушался—тихо.
Только началъ опять дремать, слышу—визжитъ.
— Да хоть пропади ты,—думаю,—поскорѣе, несносная тварь!
Если бы зналъ, что произойдетъ такая скверность, лучше велѣлъ-бы Варварѣ взять ее съ собой на лежанку.
Лежу смирно и уснуть уже не пытаюсь. Голову разламываетъ, капустная отрыжка началась.
На пожарной каланчѣ часы забили. И сторожъ попался такой лѣнивый, ударитъ разъ и минутъ пять отдыхаетъ потомъ опять ударитъ и опять отдохнетъ. Точь въ точь, какъ на похоронахъ.
Лежу я и думаю, какъ мнѣ будетъ въ гробу лежаться, когда помру. И кажется мнѣ, что болонка будетъ сидѣть у меня на груди, показывать свою отмороженную лапу и пищать. Это до самаго второго пришествія-то! Подумайте только.
Рѣшилъ разбудить Варвару и велѣть ей принести собачонку въ комнату, да потомъ стыдно стало изъ за такихъ пустяковъ прислугу безпокоить. Она ужасно нахальная баба. Какъ разъ вообразитъ, что я пьянъ, или еще что-нибудь такое нехорошее скажетъ.
Однако, чѣмъ дальше, тѣмъ все больше у меня душа ныть начинаетъ.
Зажегъ лампу, взялся за „Свѣтъ". Тамъ тоже всякіе ужасы описываютъ: убійства, поджоги, кражи со взломомъ Утѣшили, думаю.
Бросилъ господина Комарова подъ столъ, натянулъ кое какъ брюки, надѣлъ на босую ногу калоши, накинулъ шубу и въ такомъ видѣ вышелъ на крыльцо, собачонку искать. Это въ тридцатиградусный-то морозъ!
На крыльцѣ пусто. Перегнулся черезъ перила, смотрю—лежитъ въ самомъ сугробѣ и уже не шевелится. Спустился съ крыльца, потрогалъ: совсѣмъ холодная и даже твердѣть начинаетъ.
Однако-же взялъ я ее подъ шубу, принесъ къ себѣ въ комнату и положилъ на коверъ.
Глаза на выкатъ, точно стеклянные, a хвостъ какъ она спрятала между ногъ такъ онъ тамъ и примерзъ.
Ну-съ, холодный-то воздухъ меня, по-видимому, нѣсколько въ чувство привелъ. Смотрю на мертваго пса, и соображаю, что сдѣлалъ глупость, да, кромѣ того, по всей вѣроятности—простудился.
А песъ былъ весь въ снѣгу, началъ оттаивать и на коврѣ образовалась грязная лужа. Совсѣмъ скандалъ, однимъ словомъ. Взялъ я его поскорѣе за шиворотъ и выбросилъ опять назадъ на улицу Уснулъ часа черезъ полтора и видѣлъ во снѣ такія вещи, которыя только въ сумасшедшемъ домѣ сниться могутъ. Будто бы принесъ я съ улицы не болонку, а скорбутнаго больного, а онъ продолжаетъ заживо разлагаться и съ него всякая дрянь на коверъ течетъ.
Потомъ будто-бы болонка принесла мнѣ сосиски съ капустой—Ѣшь, —говоритъ.—Это изъ меня сдѣланы.
А рядомъ стоитъ племянникъ и баситъ:
— Въ этихъ уѣздахъ недородъ повторялся уже четыре года подрядъ. Немудрено, поэтому...
Однимъ словомъ—чушь.
На другой день, конечно, бронхитъ. Коверъ тоже испорченъ. И собакъ теперь я прямо таки видѣть не могу... особенно маленькихъ...
*****
Кузнецкая липа.
Не привлекательна сибирская тайга, раскинувшаяся широкимъ поясомъ по всему сѣверу азіатскаго континента, почти отъ Урала и до береговъ Охотскаго моря. Не поражаетъ она величіемъ картинъ, не плѣнитъ взора изяществомъ формъ. Угрюмые пихтово-еловые лѣса, лишь тамъ и сямъ прерываемые участками березниковъ и осинниковъ или-же болотами, подавляютъ своимъ безконечнымъ однообразіемъ. Печать какой-то безпорядочности проглядываетъ всюду въ этихъ лѣсахъ. Рѣдко попадется значительный по размѣрамъ участокъ стройнаго, просторнаго, крупнаго лѣса, съ колоннадой толстыхъ стволовъ и широкими шатрами вѣтвей; обыкновенно-же тутъ смѣсь тѣснящихся другъ къ другу деревьевъ разныхъ размѣровъ; преобладаютъ нетолстыя, съ тощей, неправильной кроной лишь на верхушкѣ, подъ которой на стволѣ торчатъ сухіе сучья, увѣшанные сѣрыми прядями кухты или бородатаго лишайника. Тонкія жерди, съ жидкими вѣтвями, молодыхъ пихтъ и елей или сильно вытянувшіеся и изогнутые стволики березокъ невыгодно усиливаютъ густоту. Кой гдѣ выдѣляются своими толстыми стволами старые кедры; но здѣсь они совсѣмъ не похожи на тѣ роскошно развитыя деревья, которыми восхищаются въ искусственно охраняемыхъ при нѣкоторыхъ деревняхъ рощицахъ. Они не вносятъ здѣсь диссонанса въ общую картину: стволы ихъ также голы или усажены сухими сучьями и съ небольшой, обыкновенно уродливо развѣтвленной верхушкой. Тамъ и сямъ виднѣются полусгнившія, затянутыя мхомъ валежины съ „выскеромъ" или бугромъ вывороченной корнями почвы; изогнутые дугой или-же надломленные стволы осинъ съ лежащей на землѣ кроной, сохранившей еще завядшіе и почернѣвшіе листья. Вотъ трудно проходимая „ломовая грива" съ накрошенными другъ на друга стволами вырванныхъ бурей деревьевъ, а тамъ гарь съ уныло торчащими полуобгорѣлыми стволами и пнями, не успѣвшая еще затянуться молодымъ березнякомъ или осинникомъ. И все въ томъ-же родѣ безъ конца. Сосновые бора, подмѣшанные обыкновенно той-же березой и осиной, встрѣчающіеся кой гдѣ по берегамъ рѣкъ, или развитые мѣстами лѣса изъ лиственницы не даютъ рѣзкихъ контрастовъ и мало нарушаютъ общій тонъ однообразной картины.
Но не всегда лѣсная растительность Сибири имѣла такой монотонный, сѣрый колоритъ; въ давно прошедшія времена, когда человѣческая нога не попирала еще ея почвы, именно въ міоценовую эпоху третичнаго періода, были иные, много привлекательнѣе этихъ, лѣсные ландшафты. Тогда здѣсь красовались лѣса изъ вѣчно-зеленыхъ аралій, илексовъ, эукалиптовъ, миртовыхъ, чернодревниковъ (Diospyros) и другихъ деревьевъ, подмѣшанныхъ мѣстами широколиственными платанами и кленами. Были и хвойные лѣса, но изъ породъ сходныхъ лишь съ современнымъ гималайскимъ деодаромь и другими, живущими нынѣ въ Индіи. Объ этомъ съ несомнѣнностью свидѣтельствуютъ остатки всѣхъ этихъ растеній, сохранившіеся до нашего времени въ береговыхъ толщахъ р. Чулыма недалеко отъ г. Ачинска и въ др. м. Сибири. Эти остатки указываютъ также и на бывшій въ Сибири въ тѣ времена подтропическій климатъ, такъ какъ наиболѣе сходныя съ ними растенія обитаютъ въ настоящее время въ Соединенныхъ Штатахъ и тропической Америкѣ, въ южной Азіи и въ Австраліи.
Но времена прошли, климатъ измѣнился и сталъ менѣе теплымъ; всѣ эти породы исчезли съ лица земли, вымерли; мѣсто ихъ заняли другія формы. Въ послѣдовавшую затѣмъ эпоху пліоцена въ Сибири господствовали уже лѣса изъ широколиственныхъ породъ, именно кленовъ, липы, орѣшниковъ, буковъ, ясеня, граба, дуба, тюльпаннаго дерева, планеры и другихъ, отпечатки листьевъ которыхъ были найдены въ долинѣ р. Бухтармы и отчасти также около Томска. Эти широколиственные лѣса, или, какъ ихъ называютъ въ Европейской Россіи—чернолѣсье, весьма сходны съ таковыми, встрѣчающимися теперь въ Европѣ, на Кавказѣ, въ Манчжуріи и др. странахъ умѣреннаго климата. Комбинируясь съ хвойными лѣсами изъ породъ отчасти сходныхъ съ современными нашими пихтами и елями, отчасти-же близкихъ съ нѣкоторыми американскими (напр. секвойя—родственная знаменитому калифорнійскому Мамонтову дереву),—они создавали въ странѣ также иныя, нежели современныя, болѣе живописныя картины.
Но и ихъ пора миновала и они, уступая охлаждавшемуся и измѣнявшемуся въ континентальный, климату, сошли здѣсь со сцены. Нѣкоторыя, составлявшіе эти лѣса, породы тоже не дожили до нашихъ временъ, вымерли; большинство-же другихъ сохранилось лишь въ странахъ съ соотвѣтствующимъ имъ, болѣе благодатнымъ климатомъ, какъ напр. въ западной Европѣ, на Кавказѣ, въ Японіи, Китаѣ и нѣкот. мѣстахъ сѣверн. Америки. И единственно только липа, изъ всей серіи этихъ древесныхъ породъ, пережила на мѣстѣ всѣ невзгоды, скосившія ея современниковъ и влачитъ теперь въ чуждой ей обстановкѣ свое жалкое существованіе, коротая послѣдніе дни.
Сохранилась она въ ничтожномъ количествѣ лишь въ трехъ пунктахъ центральной Сибири *); одинъ изъ нихъ находится близъ г. Красноярска **), гдѣ липа уже утратила форму дерева и имѣетъ видъ жалкихъ кустовъ, состоящихъ изъ многочисленныхъ тонкихъ стволиковъ, рѣдко достигающихъ саженной высоты. Раньше, на памяти старожиловъ, она была распространена здѣсь шире и имѣла большіе размѣры; теперь- же находится, по выраженію изслѣдовавшаго ее Я. П. Прейна, при послѣдней агоніи. Другое мѣстонахожденіе—на Салаирскомъ кряжѣ ***); здѣсь липа, обитая въ смѣшанномъ пихтово-еловомъ лѣсу, сохранила еще видъ небольшого деревца, вершковъ до 2 толщиной и 2—3 сажени высотой; очень рѣдко попадаются болѣе крупные экземпляры съ искривленными, а иногда и пригнутыми къ почвѣ, стволами до 4 вершковъ въ діаметрѣ. Тутъ она тоже, по-видимому, просуществуетъ недолго.
Наконецъ третій районъ ея обитанія находится на западныхъ предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау****); онъ состоитъ изъ нѣсколькихъ небольшихъ островковъ, скученныхъ на площади верстъ въ 30—40 въ длину (по меридіану) и верстъ на 15 въ ширину. Въ этомъ, глухомъ еще пока, углу Томской губерніи, липа сохранилась несравненно лучше, чѣмъ въ предыдущихъ мѣстахъ. Хотя и тутъ она растетъ по большей части въ смѣси съ другими деревьями, напр. пихтой, березой и осиной, но нерѣдко образуетъ и почти чистыя рощицы изъ довольно крупныхъ деревьевъ (рисун. 1), достигающихъ 7—9 саж. высоты и 6 —12 вершк. въ поперечникѣ ствола; среди нихъ попадаются изрѣдка и болѣе крупные экземпляры до 12 саж. выс. и 4—5 четвертей въ діаметрѣ комля (рисун. 2), а по разсказамъ обывателей бываютъ и великаны со стволами—до 11/2 арш. толщины. Обильное потомство, производимое ею здѣсь какъ при помощи сѣмянъ, такъ и отводковъ, а также и нѣкоторая приспособленность къ существующимъ физико- географическимъ условіямъ, выразившаяся въ кой-какихъ особенностяхъ ея анатомическаго строенія,—указываютъ на усиленное стремленіе этого дерева отстоять тутъ свое существованіе.
Эти липовыя рощицы изъ стройныхъ деревьевъ съ яркой зеленью листвы, усѣянныхъ съ половины лѣта массой хотя и не блестящихъ, но зато душистыхъ цвѣтковъ, вносить въ ландшафтъ нѣчто своеобразное, не вполнѣ гармонирующее съ остальной, преобладающей въ этихъ мѣстахъ, тайгой. Эта особенность выступаетъ еще рѣзче, если приглядѣться попристальнѣе къ остальнымъ растеніямъ, составляющимъ травянистый покровъ въ этихъ лѣскахъ, а также и по сосѣдству съ ними. Среди нихъ наблюдатель съ удивленіемъ замѣчаетъ немало (около двухъ десятковъ) такихъ травъ, которыя, также какъ и липа, являются необычными для Сибири, но широко распространенными въ чернолѣсьѣ Европы или крайняго востока Азіи. Такъ напр. тутъ въ обиліи встрѣчается копытень (Asarum europaeum), подлѣсникъ (Sanicula euro- раеа) и нѣк. др. растенія, совершенно отсутствующія во всей остальной Сибири, но обыкновенныя въ Европѣ; не рѣдокъ тутъ пахучекоренникъ (Osmorhiza amurensis), обитающій, кромѣ этого пункта, только въ Манчжуріи и Амурскомъ краѣ. Есть нѣсколько растеній общихъ этимъ отдаленнымъ областямъ, т. е. Европѣ и крайнему востоку Азіи; наконецъ замѣчаются и такія, напр. папоротникъ Aspidium aculeatum, который кромѣ указанныхъ областей, встрѣчается спорадически еще въ Малой Азіи, сѣверной и южной Африкѣ, въ сѣверн. и тропической Америкѣ, въ Новой Голландіи, Новой Зеландіи и на нѣк. другихъ островахъ Австраліи. Такое островное нахожденіе растенія въ разныхъ частяхъ свѣта и въ весьма различныхъ климатахъ—фактъ рѣдкій и замѣчательный, наводящій на размышленіе; объяснить такое распространеніе растенія несомнѣнно дикаго, т. е. не культурнаго и не сорнаго, при современныхъ, существующихъ на землѣ условіяхъ, невозможно; но оно становится понятнымъ, если принять, согласно съ указаніями геологическихъ фактовъ, сплошное, широкое распространеніе такихъ растеній по земной поверхности въ прежнее время.
И такъ на Кузнецкомъ Алатау разыгрывается теперь послѣдній актъ минувшей исторіи Сибирской флоры; тамъ мы можемъ еще созерцать ея послѣднихъ представителей въ лицѣ липы съ указанными ея спутниками, но по-видимому не надолго. Тѣхъ усилій, которыя затрачиваются этимъ деревомъ на сохраненіе своего существованія при медленно измѣняющихся условіяхъ, не хватитъ, когда этихъ глухихъ мѣстъ коснется современная человѣческая культура. А между тѣмъ она уже надвигается и властно требуетъ себѣ мѣста. Подъ ея неумолимой рукой быстро рѣдѣютъ лѣса, нарушаются бывшія условія страны, при которыхъ еще теплилась жизнь ея аборигеновъ, и эта жизнь мало-по-малу загаснетъ; безмолвно погибнетъ липа съ своими сотоварищами, подобно тому, какъ рано или поздно сойдетъ тутъ со сцены и блуждавшій по ея лѣсамъ инородецъ-телеингитъ.
П. Крыловъ.
_______________
*)Правда липа встрѣчается еще и на окраинахъ Сибири, именно на дальнемъ востокѣ и въ западныхъ частяхъ Тобольской губерніи, но въ первомъ мѣстѣ, т. е. въ Амурскомъ и Уссурійскомъ краяхъ, она совмѣстно съ другими широколиственными деревьями, образуетъ сѣверную окраину лѣсовъ, развитыхъ далѣе на югъ въ предѣлахъ Манчжуріи и Китая. На западѣ-же Сибири районъ ея обитанія, вдающійся острымъ клиномъ въ предѣлы Тобольской губерніи, составляетъ также непосредственное продолженіе современной сплошной европейской области ея распространенія. Тамъ и здѣсь
она находится при условіяхъ климата менѣе континентальнаго.
**) Въ 16 верстахъ юго-западнѣе Красноярска—на склонахъ невысокаго
хребта, ограничивающаго лѣвый берегъ р. Енисея, между
рѣчками Караульной и Минжулемъ, что противъ устья р. Маны.
***) Въ Кузнецкомъ уѣздѣ Томской губ., по р. Удѣ—притоку р. Тогула, впадающаго въ р. Чумышъ; верстахъ въ 20 на сѣверо- востокъ отъ д. Глазыриной и верстахъ въ 50 сѣвернѣе с. Тогульскаго.
****) Верстахъ въ 50 южнѣе г. Кузнецка и въ 10 —15 верст. отъ д. Кузедеевой, по правымъ притокамъ р. Кондомы—Тешу, Мигашу и нѣк. др.
****
Изъ „міра отверженныхъ".
Къ рисунку „Бродяги".
Осень. Листья уже осыпались и деревья плачевно протягиваютъ свои голыя вѣтки къ хмурому, дождливому небу, что, какъ сѣрое покрывало, низко нависло надъ еще болѣе сѣрой землей.
Изъ кустовъ прибрежнаго ивняка на песчаный бугоръ, торопливымъ шагомъ, выходятъ двое:— Одинъ—высокій и тощій, съ сѣдыми усами, въ шапкѣ и крестьянскомъ армякѣ, по походкѣ и выправкѣ, видимо—бывшій солдатъ. Другой—пониже, въ какой-то коротенькой женской кацавейкѣ—на головѣ у него истрепанный городской картузикъ, ноги въ опоркахъ, у пояса позвякиваетъ привязанный котелокъ Лицо его, подвязанное грязнымъ платкомъ, носитъ слѣды боевыхъ знаковъ. Отъ сырого, пронзительнаго вѣтра съ рѣки онъ глубоко запряталъ руки въ рукава кацавейки и устало шагаетъ за товарищемъ, по временамъ тоскливо поглядывая впередъ.
„Чортъ-бы его дралъ, это село"... ругается онъ:— почитай цѣлый день идемъ, а его все еще не видать... Отощалъ, братъ, совсѣмъ"... добавляетъ онъ, обращаясь къ товарищу.
Высокій ничего не говоритъ, пристально вглядываясь въ зарѣчную даль своими зоркими ястребиными глазами
Проходятъ въ полномъ молчаніи еще съ полверсты. „Ну, теперь скоро и конецъ",—восклицаетъ высокій... .Видишь —вонъ налѣво... за косой чернѣется —это и есть деревня. А тамъ, братъ, у меня знакомые есть, обязательно ночевать хоть въ баню да пустятъ. Можно будетъ и „пострѣлять", народъ тутъ добрый —шанегъ и кораликовъ надаютъ—ѣшь не хочу... Смотри, только не вздумай сбаловать, какъ вчера"—добавляетъ онъ, строго смотря на товарища
Спутникъ его въ отвѣтъ что-то недовольно ворчитъ себѣ подъ носъ. Послѣднія слова товарища пришлись ему очевидно не совсѣмъ по душѣ, вызвавъ непріятныя воспоминанія. На послѣднемъ станкѣ онъ, дѣйствительно, „пошалилъ", стащивъ съ оплота сушившуюся мужицкую рубаху, въ чаяніи продать ее гдѣ либо по пути, но зоркій глазъ бабы замѣтилъ его продѣлку и сбѣжавшіеся на ея крикъ мужички здорово таки накостыляли ему шею.
Но какъ было и не стащить, когда вотъ уже двѣ недѣли въ карманѣ ни гроша, а тутъ, какъ на зло, дождь, слякоть. Съ холоду такъ и подмываетъ выпить. Въ животѣ тоже не ахти-какъ туго —подаютъ нынче бродягамъ плохо. Опорки— совсѣмъ разваливаются.
"Тебѣ-то черту ничего..."—думаетъ онъ, съ завистью глядя на крѣпкіе бродни товарища. „Ишь, лопать-то какую справилъ—баринъ бариномъ идетъ... Самъ поди тоже обобралъ какого нибудь челдона" (мужика).
При этомъ мысли его внезапно принимаютъ другой оборотъ. „Эхъ! теперь челдонье-то"...—думаетъ онъ. "Нажрались, поди, горячаго въ упоръ, да и валяются по печамъ"... При воспоминаніи о горячемъ, желудокъ его судорожно сжимается и онъ, чтобы заглушить голодъ, начинаетъ рыться въ карманахъ въ надеждѣ отыскать хотя немного махорки, но, вспомнивъ, что карманы пусты и махорка давно уже вся докурена, онъ злобно плюетъ и громко выругавшись, спѣшитъ нагнать ушедшаго довольно далеко впередъ товарища.
*****
Къ рисункамъ.
Иркутская духовная семинарія.
Зданіе семинаріи находится въ сѣверо-восточной части города Иркутска, то есть въ той части, которую пощадилъ большой пожаръ 1879 года, уничтожившій чуть не половину города,—значитъ зданіе это остается и теперь въ томъ видѣ, въ какомъ оно было тогда, когда въ немъ учился Щаповъ. Благодаря тому же обстоятельству библіотека семинаріи одна изъ самыхъ большихъ библіотекъ въ городѣ; тогда какъ всѣ другія библіотеки сгорѣли, семинарская уцелѣла; по этому ни въ какой другой иркутской библіотекѣ нѣтъ такихъ старинныхъ книгъ, какъ въ семинарской; въ родѣ, напримѣръ, библіи братьевъ Лихуды. Изъ иркутской семинаріи вышло нѣсколько сибирскихъ писателей: А. П. Щаповъ, М. В. Загоскинъ и С. С. Шашковъ, Жизнь въ иркутской семинаріи во время, приблизительное ко времени Щапова, описана М. В. Загоскинымъ въ его романѣ „Магистръ". И самъ Щаповъ также напечаталъ небольшую замѣтку о семинарской жизни; эта замѣтка была напечатана въ газетѣ „Искра" за тотъ годъ, когда Щаповъ жилъ въ Петербургѣ. Щаповъ описываетъ, какъ семинаристы проводили время и какія у нихъ были радости; разсказываетъ, какъ они получали изъ родительскихъ домовъ домашнія печенья, дѣлились ими съ товарищами и чтобы какъ можно дольше продлить наслажденіе, какъ они медленно ихъ уничтожали, обкусывая ихъ края замысловатыми фестонами. Потомъ онъ описываетъ, какъ весной семинаристы уѣзжали на вакаціи. Изъ верхо-ленскаго края, съ родины Щапова пріѣзжалъ дьячокъ и забиралъ верхо-ленскихъ дѣтей; изъ Иркутска до родной деревни они ѣхали въ телѣгѣ; на пути имъ приходилось переѣзжать въ бродъ черезъ большую рѣку; они принимали мѣры, чтобы во время переправы не подмочить вещей, боялись, чтобы вода не перевернула телѣгу, а переѣхавъ на другой берегъ благополучно вмѣстѣ съ дьячкомъ пѣли пѣснь евреевъ на берегу Чернаго моря: „Помощникъ и Покровитель, бысть мнѣ во спасеніе".
Двухслойный pdf (текст под картинками)
https://yadi.sk/i/qArvOn1KrHGZL
pdf без маски (текст и картинки)
https://yadi.sk/i/3a74gIqorHGco
Двухслойный pdf (текст поверх картинок)
https://yadi.sk/i/sRlLNsM9rHGbN
Показать спойлер
Сейчас читают
ПОМОГИТЕ СТАРОМУ ПСУ!
58009
292
Сбор средств для Лизы закрываю, спасибо большое всем благотворителям!
48238
221
Болталка для нормальных людей
52352
394
Рождественский выпуск
Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №279
за Воскресенье, 25-го декабря 1903 года.
в номере:
Иллюстрированное приложения к газете "Сибирская Жизнь" №279
за Воскресенье, 25-го декабря 1903 года.
в номере:
Показать спойлер
А. Мирская "Ea nocte, qua Christus natus est"
— У насъ не будетъ елочки? не будетъ, Миша, или будетъ?!
И крошка дѣвочка большими сѣрыми глазами пытливо глядитъ на брата, стараясь въ темнотѣ разсмотрѣть его лицо; они оба сидятъ на подоконникѣ замерзшаго окна и смотрятъ въ очищенное ото льда мѣстечко на звѣзды, сіяющія въ темнотѣ безлунной ночи.
— Надо спросить Лиду, Танечка! отвѣчаетъ мальчикъ тихимъ печальнымъ голосомъ, Лида ѣздила съ тетей по магазинамъ—она видѣла, что тамъ покупали; а мнѣ—мнѣ не нужно елку безъ мамочьки!
— Миша, Миша... ты, однако, плачешь?
— Дѣвочка жмется къ нему, и маленькая ручка тянется къ его лицу, стараясь отерѣть эти невидимыя слезы.
Мальчикъ гладитъ ее головку одной рукой, откинувъ далѣе свою голову отъ ея личика, и торопливо стираетъ эти слезы, о которыхъ она подозрѣваетъ, горячія жгучія слезы: маленькое сердце его поражено тяжкимъ горемъ, но онъ его скрываетъ, скрываетъ съ того дня, когда папа сказалъ ему: „Миша, ты большой уже... у меня неисцѣлимое горе на сердцѣ; я знаю, что и твое сердце невыносимо болитъ, но мы—мужчины, мы должны беречь нашихъ дѣвочекъ отъ печали: мама просила о нихъ, умирая!“ И онъ, этотъ 9 лѣтній мужчина, свято помнилъ слова отца, онъ всѣми силами старался не показать своего горя, онъ все стараніе прилагалъ, чтобы дѣвочки не чувствовали своего одиночества, и хотя его милое личико такъ похожее на лицо его мамы похудѣло и сузилось, и большіе сѣрые глаза глубоко запали, онъ ни чѣмъ не выдалъ своей тоски... И сестренки, эти маленькіе цвѣтки, пригрѣтые его ласками и ласками отца, по прежнему ясно и весело глядѣли на Божій міръ; зато его больше не ласкали... съ тѣхъ поръ какъ „ее" унесли, ни чья рука не гладила его мягкіе волосы, ни чьи уста не цѣловали его губокъ, и глазъ, какъ цѣловала его она, его мама.
Сегодня онъ не могъ казаться веселымъ: это было выше его силъ; ему вспомнилось прошлое Рождество, такой-же сочельникъ и этотъ самый подоконникъ, а на немъ—онъ съ мамой, съ его дорогой мамой! Танечка и Лида спали, спала и „маленькая," какъ и сегодня; а они говорили,—мама разсказывала ему о Рождествѣ; какъ она хорошо умѣла разсказывать! она и тогда уже кашляла бѣдная, но Миша не зналъ, не думалъ о томъ, что она скоро уйдетъ отъ него. О, если бы зналъ онъ это,—онъ бы не отошелъ отъ нея, онъ-бы такъ и не отнялъ рукъ отъ ея шеи, не отклонилъ головы отъ ея груди...
— Мама... мама!...
— Ты плачешь, Миша?
— Нѣтъ, Танечка, нѣтъ, я не плачу! смотри—вонъ звѣздочки: сегодня Христосъ родился ночью..
— Христосъ, Миша?., къ которому мама ушла?!.. Няня говоритъ, что она смотритъ на насъ съ неба... поглядимъ вмѣстѣ, не увидимъ ли ее! я все гляжу и не вижу ее, только однѣ звѣздочки вижу... Поглядимъ вмѣстѣ, Мишенька?
И она нѣжно прильнула къ нему своей головкой.
— Мы простынемъ, Танечка, тутъ; сегодня очень холодно; нельзя сидѣть долго на окнѣ: папа осердится; онъ, вѣдь скоро пріѣдетъ, нашъ папа... Пойдемъ къ Лидѣ, къ тетѣ: тамъ самоваръ шумитъ, поетъ пѣсенки... Помнишь—такія хорошенькія, о которыхъ мама говорила; она умѣла понимать пѣсенки самовара, она все умѣла, наша милая, милая мамочка!. И опять слезы подступили къ его горлу; положительно онъ не могъ владѣть собою сегодня, и дѣвочка, точно понявъ его своимъ чуткимъ сердечкомъ, притихла и слѣзла съ подоконника.
Тихо сидѣли они за столомъ въ ихъ уютной столовой; тетя хлопотала около него, вынимала изъ красиваго чернаго буфета варенье и блюдечки; лампа свѣтила привѣтливо, и самоваръ пѣлъ свои пѣсни. Но все это было не то, что ранѣе, при мамѣ... — Папочка!!
Свѣтлорусыя головки разомъ повернулись на звонокъ. Это дѣйствительно былъ онъ, усталый, измученный, раздраженный... Тяжелая скорбь жгла ему сердце, и даже, при взглядѣ на эти милыя головки, тучи, лежавшія на его лицѣ, не разгладились...
Вотъ и конченъ вечеръ, дѣвочки ласкаются къ отцу и уходятъ; идетъ и Миша проститься. Отецъ, не смотря на него, роняетъ обычное— „ступай съ Богомъ"—и склоняется надъ работой, которой онъ глушитъ свою тоску... Тихо въ домѣ. Только „маленькая" плачетъ въ дѣтской; но и она затихла, убаюканная няней. Крѣпко заснули дѣвочки и Миша не спитъ: онъ, раздѣтый, завернулся въ легкое одѣяло и сидитъ на окошкѣ; лампадка потухла у образовъ, и въ темнотѣ худенькая фигурка мальчика едва бѣлѣется; никто не увидитъ его, никто не заглянетъ въ эту комнату: вѣдь мамочки нѣту, некому позаботиться о немъ, некому приласкать...
А маленькое сердечко такъ стосковалось о ласкѣ! „Пройти въ гостинную—тамъ лучше звѣзды видно: окна не такъ замерзли... Не глянетъ ли изъ-за звѣздъ мамочка?.."
„Пройду черезъ столовую я тихо, никто не увидитъ!"—несется въ дѣтской головкѣ,—„я могу надѣть Лидины туфельки: онѣ не застучатъ..."
— Божинька милый, добрый, покажи мнѣ мамочку, мою милую, милую мамочку!
Вотъ и гости иная, и окно; съ этой стороны больше звѣздъ видно: какія большія, точно трепещутъ!
— Мамочка дорогая, выгляни изъ-за нихъ: я, Миша, такъ соскучился!.. Мамочка, голубушка, меня никто, никто не ласкаетъ... мнѣ не велятъ плакать, а мнѣ такъ больно удерживаться, я такъ соскучился... милая, слышишь ты меня?!. Боженька! мнѣ не надо елки, не надо игрушекъ, ничего не надо, только пусти ко мнѣ мамочку не надолго, совсѣмъ не надолго: только пусть она меня поцѣлуетъ!
И, обливаясь неслышными слезами, онъ плотно прижимается къ стеклу разгорѣвшимся личикомъ и глядитъ, не отрываясь, своими большими печальными глазами въ темноту звѣзднаго неба, глядитъ до тѣхъ поръ, пока не затуманиваются глаза, и сонъ, этотъ утѣшитель страданій, смыкаетъ ихъ вѣки; улыбка на его губахъ, счастливая, радостная, что ему снится мама; о, несомнѣнно! она пришла къ нему во снѣ въ эту святую ночь: вѣдь онъ такъ просилъ, чтобы ее отпустили!.............
— Миша, голубчикъ, какъ ты напугалъ меня!. Вѣдь, простынешь, захвораешь... Зачѣмъ ты ушелъ сюда, родной мой? пойдемъ—я отнесу тебя въ кроватку!...
Миша раскрылъ глаза и удивленно посмотрѣлъ на отца, осмотрѣлся кругомъ и вдругъ началъ рыдать, крѣпко закрывъ личико обѣими руками; слезы катились сквозь тонкіе пальчики, все его худенькое тѣло тряслося въ рукахъ отца, а тотъ крѣпко прижималъ его къ себѣ и шепталъ испуганно;
— Миша, милый! да о чемъ-же ты? что съ тобою, скажи мнѣ ради Бога?!
— Папочка! я маму... я маму звалъ... она глядѣла на меня изъ-за звѣздочекъ, я просилъ ее приласкать меня, я хотѣлъ съ ней поплакать, а ты меня разбудилъ!
Я такъ соскучился, папочка! я не могу не плакать, я не могу терпѣть... о, моя мамочка, милая, моя дорогая мама!..
Вся боль его сердца, истосковавшагося по ласкѣ, сказалась въ этихъ слезахъ; онъ ждалъ ее съ неба, изъ-за звѣздъ, въ ту ночь, когда другія дѣти ждутъ игрушекъ и лакомствъ; о ней надрывалась его душа, полная не дѣтскаго горя! И отецъ понялъ это.
— Мальчикъ мой!.. бѣдное маленькое сердечко!
Что-то жгучее, горячее упало на дѣтскій лобикъ; еще, еще... слезы отца смѣшались со слезами ребенка, губы отца, горячія, вздрагивающія, цѣловали его личико, и эти поцѣлуи снимали то тяжкое, невыносимое, что давило грудь Миши.
— Папочка, я могу плакать?.
— Можешь, мой маленькій, мой бѣдный! мы вмѣстѣ будемъ плакать о мамѣ.
Я знаю теперь, что нужно моему мальчику: слезы и ласку... И я тебя буду ласкать за себя и за маму... тебѣ легче?! Мама видитъ насъ вмѣстѣ, она смотритъ на насъ, хотя мы ее и не видимъ, вонъ изъ за тѣхъ звѣздъ!
— И они оба полными слезъ глазами глядятъ
въ темноту ночи, крѣпко прижимаясь другъ къ другу; они чувствуютъ огромное облегченіе, раздѣленное горе не падаетъ гнетомъ на ихъ измученныя сердца.. А имъ съ высоты, словно радуясь за нихъ, ласково мерцала звѣзды, ночь глядѣла на нихъ своими очами. Та ночь, въ которую родился Христосъ!..............
II.
— И въ этакую-то бурю, Ѳедосей, парненку шлешь?!., съ покорнымъ упрекомъ говорила мужу небольшая полная женщина.—Ну, киргизы привышные, а Петяйка зазнобится; да и подъ праздникъ охота въ церковь ему—самъ знашь: пѣвчій онъ!..
— Што я виноватъ, што ли? огрызается Ѳедосей, худощавый, маленькій, болѣзненный мужикъ,—кого вмѣсто него пустить-то: однѣ подводы въ Сякисовку Кондобайка увезъ, Бекетая послалъ до Мелкой съ сотскими, Чуканъ одинъ да я... Петяйки не впервой возить...
Што-не справится штоли съ парою? чѣмъ я виноватъ, што хворость задавила проклятая, а тутъ этихъ. лѣшій нагналъ въ такую ночь, прости ты меня, Господи! ворчитъ исшо! рази мнѣ самому охота парнишку посылать?! эхъ, горе—жизнь наша ямщицкая!
— Скорѣе! торопили на дворѣ два десятскихъ, прибѣжавшіе съ земской, баринъ торопится, писаришки загадилъ насъ: иешо ногами топаетъ, будь онъ проклятъ!
И, кашляя и стоная, принялся онъ натягивать халатъ на свои худыя плечи.
— А гляди, ребята, буранъ то какъ дурить: однако буря будетъ?!..
Вѣтеръ, дѣйствительно дулъ холодными рѣзкими порывами, вздымая тучи снѣгу съ горъ и нанося ихъ на село, пріютившееся у ихъ подножія. Темнота. Ни одной звѣзды не сіяло на небѣ, покрытомъ тучами. Фонари тускло свѣтили у крыльца, лошади, которыхъ проворно хомутали, фыркали и жались другъ къ другу.
— Эхъ, горе,—наше ямщицкое! ворчалъ Ѳедосей...
Петяйка ты, родимый, крѣпче одѣнься, теплѣе!—совѣтовалъ онъ мальчику лѣтъ 11-ти— пи шь холодаетъ, вѣтрище подымается... Чуканъ, ты поглядывай на него; назадъ ворочаться будете—въ повозку посади его; да дорогой не спи, Чуканъ, а то гляди и до грѣха недалеко, коли проспишь.
— Што ты, козяинъ, мы привышна! —откликнулся немолодой киргизъ, влѣзавшій уже на козлы повозки. Эй, Петяй, за мной! я, козяинъ, ему дьячка запрегъ; онъ не отстанетъ отъ моихъ коней!...
— Ну, съ Богомъ, коли такъ. На земскую теперь... да ты, Чуканъ, половчѣе подавай: знаешь самъ-то не любитъ неаккуратности.. штобъ живо, и кони не пошевелились... Оборони Боже лягаться!
— Осподь съ тобой, Петяйка!... ступай, желанный, въ добрый часъ! сказала мать, вышедшая на крыльцо съ фонаремъ въ рукахъ, не отставай!
— Чуканъ голубчикъ, не отпускай его отъ себя!
— Ладно, козяйка, ладно! трогай!..
И повозка Чукана и кошевки Петяйки одновременно выѣхали со двора.
— Къ полночи вернутся! промолвилъ хозяинъ: поспѣетъ еще къ службѣ Петяйка нашъ! десятники сказывали—сичасъ 8-й часъ; до Березники 7 верстъ, они льдомъ поѣдутъ, Иртышомъ.., долго-ли оборотиться, только-бы буранъ полегчалъ!...
А онъ не легчалъ, этотъ буранъ: на степи это было сильнѣе замѣтно; онъ точно гигантское чудовище съ огромными крыльями наскакивалъ сзади на повозку, осыпалъ кошевку снѣгомъ и несся, обгоняя ихъ; снѣжныя волны перекатами катились черезъ головы путниковъ, осыпали лошадей, за ними съ новымъ порывомъ вѣтра неслись новый волны. Было холодно. Петяйка вздрагивалъ, не смотря на теплую шубу и халатъ, надѣтый подъ нею. Мать заботливо укутали его шарфомъ, шапка на мѣху покрывала его маленькую бѣлокурую голову, но снѣгъ забирался вездѣ, за шею, въ уши, и когда мальчикъ обернулся назадъ, его сердечко сжалось невольнымъ страхомъ: такая страшная темнота густѣла тамъ, и ни одного огонька не глянуло на него изъ окошекъ оставленнаго села. Поднятыя вѣтромъ снѣжныя волны закрыли ихъ отъ его глазъ.
Маленькія привычныя руки умѣли править лошадьми; да сегодня онѣ и сами бѣжали безъ управленія вслѣдъ зa передней парой, вытянувъ по вѣтру морды и часто фыркая, привычная дорога была имъ слишкомъ знакома. Петя даже вожжи опустилъ и задумался: онъ любилъ лошадей, любилъ поѣздки; онъ, не тяготился своей долей, но сегодня ему не хотѣлось ѣхать... охъ, какъ нс хотѣлось! „Кабы не тятька больной—уперся-бы онъ и не поѣхалъ, а то тятьку жаль... а безпремѣнно къ службѣ опоздаемъ, и начнется безъ него эта торжественная служба"!..
А онъ такъ любить пѣть въ церкви: его голосъ чистый и красивый ясно выдѣляется въ хорѣ. Евгеній Иванычъ-регентъ любилъ его за пѣніе, и батюшка всегда такъ ласково гладитъ курчавую головку Пети, и такъ хорошо улыбаются мальчику его губы. Давеча Петя забѣгалъ въ церковь—хорошо тамъ: огромныя иконы въ красивыхъ кіотахъ кротко смотрѣли на него, лампады горѣли передъ ними, красивая розовая церковь, казалось, радовалась празднику, а тамъ, на клиросѣ лежали новыя ноты, по которымъ они будутъ нѣть пѣснь рождества, прекрасную пѣснь, только что разученную съ ними Евгеніемъ Ивановичемъ. Ему сейчасъ захотѣлось запѣть ее, и потихоньку началъ было, но его строго окрикнулъ сѣдокъ.
— Эй, ты, пѣвецъ! гляди лучше въ оба: полыньи эти проклятыя кругомъ—еще утопишь!— переднихъ видно?
— Вонъ они, баринъ! показалъ мальчикъ кнутовищемъ бича
— Что-же колокольцевъ не слышно?
— Буря относитъ!., близко они, да и до Березянки не далеко. За гору заворотимъ—видать будетъ!
И опять молчаніе, только колокольцы уныло позвякивали подъ дугою.
Березянка замелькала рѣдкими огоньками; ссадили сѣдоковъ и завернули коней. Петя залѣзь въ повозку и прикорнулъ въ уголкѣ. Чуканъ привязывалъ сзади его пару и разговаривалъ съ ямщикомъ и его работниками, онъ прямо привезъ проѣзжающихъ на земскую, и имъ тоже торопливо запрягали лошадей.
— Переночевалъ-бы—совѣтовали Чукану,— гляди буранъ раздурѣлся на грѣхъ...
— Козяинъ вернуться велѣлъ: дома некому... доѣдемъ, Петяйка въ церква собирался! пояснялъ Чуканъ.
— Въ церкву?.. дай Богъ къ свѣту домой-то добраться!., ты вотъ што, Чуканъ,—коли ужъ ѣхать, такъ степью, а не рѣкой поѣзжай: тамъ есть дорога —знаешь, вѣть, маленько дале, зато опаски нѣтъ: въ полынью не попадете... оборони
Боже рѣкою; теперь, перво, темень, а второе страшный вѣтеръ!..
— Ладно... прошшай! ну, ну! И Чуканъ хлеснулъ лошадей, не хотѣвшихъ идти.
— Ой, Чуканъ, не ѣзди: скотина не идетъ съ мѣста —недобро чуетъ... Я своимъ велю нa станкѣ ночевать. Куда кидаться противъ вѣтришша экого; ты гляди—здѣсь што, а на степи теперь—погибель!..
— Козяннъ велѣлъ! — упрямо повторилъ Чуканъ и хлеснулъ лошадей сильнѣе. Тѣ не охотно тронулись, уныло позвякивая колокольцами.
Петяйка не принималъ участія въ разговорѣ; пригрѣтый кочмою и закрытый заметонъ, онъ задремалъ и движеніе повозки и звонъ колокольцевъ, и порывы вѣтра не разбудили его. Лошади осторожно опустились, къ рѣкѣ, переѣхали до слѣдующаго берега и прямо повернули къ вѣтру, встрѣтившему ихъ такимъ яростнымъ порывомъ, что онѣ сразу остановились.
Буря разрасталась, волны снѣга, подымаясь, слѣпили глаза лошадямъ и ямщику, но Чуканъ- старый степной волкъ—не сдавался: онъ усиленно погонялъ лошадей среди завыванья вѣтра и снѣжныхъ перекатовъ. Повозка съ трудомъ подвигалась впередъ, темнота густѣла; ничего не видно было въ двухъ шагахъ. Киргизъ опустилъ вожжи, довѣряясь инстинкту животныхъ, и онѣ тихо подвигались впередъ... а время шло: проходили часы, долгіе въ атомъ одиночествѣ, среди хаоса бури. Они должны были доѣхать но времени, но и признака жилья не было видно; тьма впереди, тьма сзади, вверху, внизу. Лошади выбивались изъ силъ, но все-же передвигали ноги. Вотъ коренная ступила и повисла одною ногой надъ пространствомъ, разомъ открывшемся передъ нею; отъ этого толчка повозку слабо тряхнуло. Чуканъ едва удержался на козлахъ, изо всей силы натянувъ вожжи.
— Не рѣка-ли, не въ полынью-ли попали? мелькнуло въ его головѣ.
И, осторожно слезши съ козелъ, онъ началъ шарить руками землю въ этой непроглядной тьмѣ.
Лошадь одною ногою висла надъ ямой, но это была не полынья; киргизъ сползъ съ откоса. „Яма или логъ, но не полынья!"—рѣшилъ онъ, опять добрался до лошадей и началъ распрягать коренную.
— Что это, Чуканъ, пріѣхали?!—спросилъ проснувшійся Петя и выглянулъ изъ повозки. Голосъ его отнесло порывомъ вѣтра. Чуканъ не слыхалъ его, продолжая возиться возлѣ лошадей, но мальчикъ и самъ понялъ, что они не дома; откинувъ засыпанный снѣгомъ заметъ, онъ ощупалъ козлы. Чукана не было. Испугъ овладѣлъ Петей но сейчасъ-же и разсѣялся: киргизъ ощупывалъ повозку; зафыркала лошадь, которую онъ привязалъ подъ вѣтеръ.
— Петяй не спить?
— Пѣть, нѣть... гдѣ мы?..
— Аллахъ знаетъ! дорога не видно, сбились съ дорогамъ... свѣтъ нѣть, конь присталъ; снѣгъ ждать будемъ—може не замерзнемъ... Я къ тебѣ, Петяй!
— Иди ближе, садись,—теплѣе будетъ... конямъ вотъ горе.
Киргизъ сѣлъ возлѣ мальчика и закрылся заметомъ. Они крѣпко прижались другъ къ другу. Буря достигла до высшей точки своего могущества, съ дикимъ свистомъ несла она надъ ихъ головами снѣжныя волны, засыпая ими повозку; вѣтеръ проникалъ черезъ ея верхъ, забирался въ комму и подъ шубы и леденилъ ихъ тѣла.
— Бѣдные, бѣдные кони!—говорилъ Петя,—замерзнутъ они!..
— Замерзнутъ, Петяй,—невозмутимо соглашался киргизъ,—и мы замерзнемъ, коли заснемъ... не спи, Петяй, говорить будемъ, помирать неохота... заснемъ—помремъ; я старый, а помирать не надо, а ты молодой—тебѣ совсѣмъ не надо... Говори, Петяй! Пѣсни пой, только не спи.
И кригизъ самъ затянулъ что-то заунывное, похожее на вой вѣтра въ трубѣ, на волчье завыванье. Эти звуки нагоняли тоску, щемили дѣтское сердце, пугали его...
— Чуканъ!
— Што, Петяй?
— Не пой: я боюсь!
— Боишься? чего боишься?!. Чуканъ любитъ тебя... бури боишься?!
— Боюсь, бурю боюсь, пѣсни боюсь....
Страшно!..
— Не бойся, Петяй: я съ тобой! ближе ко мнѣ иди подъ шубу; я опояска растяну. Тебѣ холодно?
— Холодно!
Чуканъ растянулъ опояску, распахнуть свою баранью шубу и, взявъ ребенка на руки, запахнулъ ее опять.
— Сиди, Петяй, такъ тепло будетъ...
Аллахъ помогай будетъ! Я буду Аллаха молить, а ты моли вмѣстѣ: Аллахъ у тебя—Аллахъ у меня... Ты Христа проси, Мнколай проси,—я тоже просить буду... завтра болыша ваша день Рожества... Молись, Петяй!
И киргизъ забормоталъ что-то горячо, убѣдительно по своему, а Петя съ чувствомъ жгучаго страха прислушивался къ дикому свисту бури,
среди котораго не слышно было даже словъ молитвы Чукана.
— Чуканъ, засыплетъ насъ, засыплетъ снѣгомъ... Погинемъ мы, Чуканъ!
И, не слыша отвѣта, ребенокъ затихъ, опять прислушиваясь къ хаосу звуковъ. Тоска растетъ и ширится въ его сердцѣ, холодъ знобить, хотя руки киргиза крѣпко прижимаютъ его.
— Петяй!
Онъ крикнулъ громко, но мальчикъ едва услышалъ его.—Петяй, помолись ты... я молился...
Что-то дрогнуло въ сердцѣ Пети: просьба киргиза, въ которой звучало отчаяніе, подняла теплое чувство въ его душѣ.
— Господи, спаси насъ! слетѣло съ его устъ горячимъ порывомъ, и вмигъ забывъ страхъ и тоску, онъ сталъ шептать холодѣющими губами: Спаси, Господи, не погуби, оборони отъ смерти, помоги живыми встрѣтить Твое Рождество! Онъ молился за себя и киргиза, забывъ что тотъ „искрещенная собака", парія, жизнь котораго ничего не значитъ; для него это былъ другъ, дѣлившій съ нимъ смертельную опасность и онъ молился за него.
— Господи, спаси насъ съ Чуканомъ, вызволи, не дай погинуть!
И киргизъ, ловя его слова среди порывовъ вѣтра и свиста бури, повторялъ за нимъ:
— Не дай погинуть!.. Кристусъ, не дай погинуть, оборони отъ смертямъ!..
— Чуканъ, слышишь?—Мальчикъ схватилъ его за руку.—Слышишь, Чуканъ?!.
— Слышу, Петяй, слышу!..
Словно въ отвѣтъ на ихъ молитву, втеръ принесъ къ нимъ ясный отчетливый звукъ колокола, торжественнымъ аккордомъ прозвучавшій среди хаоса бури... одинъ, другой, ударъ за ударомъ; много ихъ плыло имъ навстрѣчу, громкіе, торжественные, радостные... киргизъ чутко слушалъ.
— Петяй,—радостно заговорилъ онъ,—Петяй, вѣдь это наша колоколъ, вѣдь избамъ близко; вылѣзай, Петяй: это не ровъ—это берегъ... Иртышъ перѣехать,—и дома будемъ... Я пойду, отвяжу кошевку... Петяй, мы туды сядемъ, „дьячь- ка“ пущу: онъ домъ знаетъ... Спасибо твоему Богу: онъ насъ позвалъ, вѣтеръ... Мы бы замерзли, Петяй!
И, торопливо отстегнувъ заметъ, онъ съ трудомъ открылъ его, отваливъ кучи снѣга. Буря по прежнему бушевала, донося звуки благовѣста; вѣтеръ сбивалъ ихъ съ ногъ, осыпая снѣгомъ, но они теперь не боялись его... Съ трудомъ вывели полузанесенныхъ коней и освободили кошевку, спустивъ ее съ крутого, но невысокаго яра, который давеча приняли за оврагъ;
они сѣли въ нее и пустились по звону, предоставивъ лошадямъ пробираться самимъ черезъ рѣку. Оба молчали, напряженно молчали, и только, когда благовѣстъ зазвучалъ совсѣмъ близко, лошади стали подыматься въ гору, и передъ ними сквозь бурю и снѣгъ замелькали огоньки избушекъ, оба они облегченно вздохнули и разомъ—и русскій мальчикъ-христіанинъ и киргизъ сняли,—одинъ свою мѣховую шапку, а другой громадный киргизскій малахай, —подняли лица къ небу; не смотря на вѣтеръ и бурю, каждый по своему, они творили молитву, благодарную молитву Христу за избавленіе отъ гибели. Падь ними по прежнему неслись тучи снѣга, обжигая имъ лица; тутъ близко съ высокой колокольни гудѣли колокола, темная ночь глядѣла имъ въ глаза, „та ночь, въ которую родился Христосъ"...
*****
Благотворитель.
(Изъ ненапечатанныхъ разсказовъ Н. И. Наумова).
Антонъ Захаровичъ Вересаевъ, только что вставъ и сотворивъ утреннюю молитву, сидѣлъ въ столовой комнатѣ своего богато убраннаго дома за круглымъ столомъ, на которомъ пыхтѣлъ, выпуская густые клубы пара, объемистый самоваръ. Антонъ Захаровичъ только что овдовѣлъ и въ горести по своей нѣжно любимой супругѣ возвращался каждый день изъ компаніи своихъ друзей настолько въ разстроенномъ душевномъ состояніи, что ночью двое дворниковъ— могучихъ парней съ трудомъ поднимали его по высокой лѣстницѣ и сдавали на попеченіе Архипа, сѣдовласаго прикащика, исполнявшаго по дому обязанности и экономки, и горничной.
Сидя за столомъ, въ поношенномъ ситцевомъ халатѣ, Антонъ Захаровичъ морщился, кряхтѣлъ, почесывалъ затылокъ и смаковалъ языкомъ непріятный вкусъ во рту, который на языкѣ людей, любящихъ хорошо поѣсть вечеромъ, а особенно выпить, называется „точно эскадронъ во рту ночевалъ". Антонъ Захаровичъ былъ купецъ, считавшійся въ г. Т. крупно богатымъ человѣкомъ и жертвователемъ на богоугодныя заведенія, за что имѣлъ различнаго объема нѣсколько золотыхъ медалей, коими украшалъ свою шею по праздничнымъ днямъ. Пожертвованія Антона Захаровича, помимо усердія его къ храмамъ, немало содѣйствовали тому, что чуть не десятки дѣлъ, имѣющихъ уголовный характеръ, возбужденныхъ противъ него по поводу различныхъ якобы противозаконныхъ продѣлокъ по подрядамъ съ казной и частными лицами, не двигались впередъ, а служили только пугаломъ, для устраненія котораго то въ той, то въ другой церкви вырастали новые придѣлы, въ коихъ и воздавали хвалу созидателю ихъ Антону Захаровичу Вересаеву.
— А къ вамъ, батюшка Антонъ Захаровичъ, водовозъ нашъ о чемъ-то помучиться хочетъ, просилъ доложить вашей милости,—произнесъ Архипъ, подавая огромную фарфоровую чашку съ чаемъ, на которой красовалась надпись: „ну-ка, выпей другую".
— Чего ему надоть?
— Богъ его знаетъ, не сказывать, должно быть, поди, дѣло же есть. Безъ дѣла то, поди, не посмѣлился бы тревожить экую особу, какъ ваша милость.
— Ну, зови, послушаемъ, какое у водовоза дѣло стрѣлось,—произнесъ хриплымъ голосомъ Антонъ Захарычъ, наливъ на блюдце чаю, крестообразно подувъ на него и сглотнувъ его почти безъ передышки, протянулъ „а-а-ахъ" и полизалъ языкомъ сѣдые усы свои.
Черезъ минуту въ комнату вошелъ старикъ крестьянинъ въ смуромъ армякѣ, усѣянномъ заплатами и въ старенькихъ бродняхъ. Войдя въ комнату, онъ помолился на передній уголъ, установленный иконами въ богатыхъ золотымъ окладахъ и затѣмъ, низко поклонившись Антону Захаровичу, молча сталъ у притолоки, поглядывая своими слезящимися глазами на грузную фигуру Антона Захаровича. Во взглядѣ старика было столько глубоко затаенной грусти и мольбы, что всякій другой на мѣстѣ Антона Захарина по одному выраженію въ глазахъ старика вонялъ бы, какое горе щемитъ его душу.
— Чего тебѣ надоть отъ меня, говори?—мелькомъ взглянувъ на него, спросилъ Антонъ Захаровичъ.
— Милости, батюшка, милости.—Старикъ глубоко вздохнулъ.
— Какой же тебѣ милости, ну, сказывай, денегъ, поди взять; душу нашего брата за однимъ дѣдомъ только и маютъ всѣ.
— Денегъ, родимый, вѣрно ты вымолвилъ.
— Ужъ я ль ошибусь, слава тебѣ, Господи, шестой десятокъ на свѣтѣ то коротаю. Много-ль тебѣ?
— Рублевъ бы двѣсти, родной, занадобилось.
— Двѣ-ѣ-ѣсти, хе, не мало! Ну на што жъ тебѣ экую напасть то денегъ-то надо? сказывай, да не лукавь мотри, я вѣдь прозорливецъ, съ одного взгляда увижу облыжность твою.
— Пошто лукавить, милостивецъ, по душѣ тѣ обскажу. Все сынокъ у меня, сынкомъ меня Богъ наградилъ, такъ одного будто только на поглядочку и далъ намъ со старухой; и таковой то это у насъ онъ догадливый, до всего то это умомъ бы ему дайти надоть, што диво, диво, говорю; диву Начальство то дается!
— Какое такое начальство?
— А вотъ слушай, говорю, благодѣтель, да и суди самъ. Обучали это мы его въ уѣздномъ училищѣ; только вотъ смотритель то уѣзнаго училища, покойная теперь головушка, пошли ему Господь небесное царство, призвалъ это меня къ себѣ и обсказывать, такъ и такъ, говоритъ, старичокъ, наградилъ тебя Господь счастьемъ въ сынѣ твоемъ, самороднымъ тала- номъ, говоритъ, усчастливилъ, ну мотри же, говоритъ, блюди его, не ставай ему поперекъ дороги, ужъ какъ никакъ въ жилу вытянись да въ еминазію отдай его, а я тебѣ помогу, говоритъ, въ эфтомъ. Ну и точно, родной мой, помогъ онъ мнѣ опредѣлить его въ еминазію, ужъ тяжело мнѣ, Господь одинъ видѣлъ, содержать его въ еминазіи, но скрѣпился, не допивалъ, не доѣдалъ, а далъ ему покончить ученье, кончилъ, медаль вѣдь, родимый, получилъ, на ахтѣ ихнемъ архерей его золотой иконой благословилъ, слышь-ко, мужичьяго сына экой наградой, не радость ли!, и старикъ заплакалъ.
— Молись, никто какъ Господь усчастливилъ, не возгордись только.
— Што ты, родной мой, намъ ли гордость то налущатъ на себя! Ну вотъ, обскажу тебѣ, и приступи это ко мнѣ сыночекъ, пусти да пусти меня, тятенька, въ столицу, говоритъ, въ ниверситетъ учиться, осчастливлюсь, говоритъ, я и тебя съ матушкой на старости лѣтъ успокою, хочу, говоритъ, всякое ученье произойти. «Другіе то всѣ говорятъ, учителя то штоись, экому, говорятъ, талану грѣшно поперекъ дороги встать, а мочи то у меня нѣтъ. Подумалъ, подумалъ я, батюшка, да и порѣшилъ, што ужъ стало быть, предѣлъ ему такой отъ Бога положенъ, сынку то, всяку науку знать, такъ статочно ли дѣло супротивъ божьей то воли идти, снарядить то его въ науку то моченьки, вишь, нѣту, достатковъ, такъ “ужъ вызволь, дай ты мнѣ двѣсти Рублевъ снарядить его въ науку, вѣкъ твой богомолецъ буду и плательщикъ, такъ ужъ по грошикамъ, по грошикамъ, какъ никакъ сколочусь да уплачу ихъ тебѣ, вызволь!—и старикъ, упавъ на колѣни, поклонился Антону Захаровичу въ ноги.
— А ты у другихъ то купцовъ побывалъ у кого, аль нѣтъ? Вѣдь я, поди, чай не одинъ здѣсь! а?.
— Побывалъ, родимый, побывалъ.
— Дали?
— Кабы дали, такъ неужъ бы тревожилъ твое степенство. Не даютъ, у насъ, говорятъ, на науку нѣтъ денегъ, мы, говоритъ, этимъ баловствомъ не займуемся, штобы на науку денегъ давать. Поди вонъ, говорятъ, къ Антону Захаровичу, къ твоей милости, стало быть, у него, говорятъ, супружница Богу душу отдала, такъ, можетъ, съ горя то на поминъ души ея и дастъ тебѣ.
— Ты и пошелъ?
— Ну, послушался ихъ, дошелъ до твоей милости.
— Трудился то за напрасное идти то. Жаль, право, мы тоже зря денегъ не подаемъ; по двѣсти то рублей на поминъ души станемъ класть, такъ и на поминъ своей ничего не оставимъ.
Иди съ Богомъ, поищи, можетъ и найдешь экого шального, што на учебу денегъ дастъ.
— Такъ ужъ не будетъ милости?—тоскливо спросилъ старикъ.
— Нѣту, нѣтъ, не будетъ, подь со Христомъ.
Архипъ, дай-ка ужъ гривенникъ ему, пускай
помолится за успокой души Матрены-то Карповны.
— Не надоть, родимый, не траться, я вѣдь не нищій,—обидчиво Отвѣтилъ старикъ, —прости, што покучился тебѣ,—и тряхнувъ шапкой, старикъ направился къ двери.
— Стой-ка, стой ужо! неожиданно окликнулъ его Антонъ Захаровичъ.
Старикъ остановился.
— Подь-ка ужо, приведи-ка ко мнѣ молодца-то своего, слышь, сына-то, я ужо погляжу, какой онъ такой по нашимъ мѣстамъ выискался, што всяку науку знать хочетъ?
— Да на што онъ тебѣ, кормилецъ, сынокъ то мой? остановившись, съ боязнью въ голосѣ спросилъ старикъ.
— Веди, погляжу, говорю, на него, можетъ исшо и въ милость войду, денегъ дамъ.
Старикъ почесалъ въ затылкѣ и вышелъ. Антонъ Захаровичъ долго сидѣлъ молча по уходѣ его, барабаня по временамъ пальцами по столу и наконецъ отрывочно заговорилъ, хотя сидѣлъ и одинъ, такъ какъ Антонъ съ тряпкой въ рукѣ стиралъ пыль въ сосѣдней комнатѣ: Гляди-ко-сь, а? ужъ сынъ мужика водовоза, што и цѣна то грошъ, въ науку лѣзетъ, а? ну и времячко подошло! Какъ жить то станемъ, какъ всѣ то учены будутъ, а?
— Антонъ! вдругъ крикнулъ онъ.
— Чего изволите?—откликнулся тотъ.
— Ты у меня мотри, за парнями въ лавкѣ поглядывай, а то исшо и они не задурѣли бы, не пошли бы учиться.
— Не задурятъ, Антонъ Захаровичъ, небось, не такіе люди, вотъ стянуть чего—это точно по ихъ статьѣ, эту науку они знаютъ, а такъ, штобы книжкой заразиться—энтого опасаться нечего.
— To-то, мотри, говорю, поглядывай.
Прошло не болѣе часа, какъ старикъ водовозъ вернулся вмѣстѣ съ сыномъ, которому на видъ нельзя было дать болѣе восемнадцати лѣтъ. Лицо его, слегка тронутое оспой, было чрезвычайно миловидно. Въ голубыхъ глазахъ юноши свѣтилась мысль и вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ просвѣчивала грусть, вѣроятно, отъ сознанія той униженности, какую онъ долженъ былъ безропотно выносить ради того, чтобы достигнуть той высокой цѣли, къ какой онъ стремился.
Войдя въ комнату, молодой человѣкъ вѣжливо поклонился Антону Захаровичу, который, не отвѣтивъ ему на поклонъ, пытливо осматривалъ его.
— Энтотъ и есть паренекъ то у тебя, што до наукъ охочъ?
— Энтотъ самый, батюшка.
— Ну, паренекъ, хошь ты тамъ и заробилъ ужь медаль себѣ, а не взыщи съ меня, старика,. што я съ тобой по просту рѣчь веду.
Гордыню то да мечтанья о себѣ пока въ задній карманъ положь; вы вѣдь нынѣшніе то, слыхалъ я, и Бога то не признаете.
— Науку то вотъ хошь произойти, а молитвы то господни знаешь ли, а?
— Знаю,—слегка улыбаясь отвѣтилъ юноша.
— А, ну-ко-сь, ну-ко-сь попытаемъ, скажи ты мнѣ „вѣрую".
Молодой человѣкъ прочиталъ требуемую молитву.
— А..а, да ты и въ самомъ дѣлѣ никакъ путный, а ну-ка „вотчу нашъ".
Онъ прочиталъ и „отче нашъ".
— Да изъ тебя, парень, и то никакъ, прокъ выйдетъ.
— А „царю небесный„ и „богородицу" знашь?
Тотъ прочиталъ и „царю небесный", и молитву Богородицѣ.
— Ну, паренекъ, теперь я вижу, что ты помнишь Бога, не возмечталъ о себѣ, за это вотъ тебя Господь и усчастливилъ. А куда же ты ѣхать то хошь?
— Въ Петербургъ, въ университетъ.
— Далеко же ты, парень, летѣть хошь! А какихъ же ты наукъ тамъ происходить хочешь?
— Юридическія.
— Это какія же стало быть по нашему то, будто какъ ихъ по-русски то обозвать?
— Юристами называются судьи въ судахъ, къ примѣру сказать, прокуроры.
— Э...э...э, вонъ какъ! Ну, парень, не хвалю, экимъ наукамъ-то и помогать опасно. Ты што-жъ послѣ науки то сюда обернешься, а?
— Сюда думаю.
— Не грабь, мотри, какъ чиновникомъ-то пріѣдешь, слышь; нѣть тебѣ экого завѣту моего, штобъ взятки брать, нѣтъ!
— Взятки брать подло и противозаконно и я никогда себѣ подобныхъ поступковъ не позволю, не опасайтесь.
— Подло, подло, это вѣрно ты сказалъ. Ты, я вижу, парень съ толкомъ, экихъ то я люблю. Я помогу тебѣ, слышь ты это, помогу. Ты поэтому и цѣни меня. Наши вѣдь купцы-то остолопы, а я не такой, я вотъ дамъ тебѣ двѣсти рублей, доходи до науки, только пусть отецъ твой напередъ записку экую дастъ, что безперечь заплатитъ мнѣ эти деньги.
— Дамъ, батюшка, дамъ, какую хошь запись,— отвѣтилъ кланяясь обрадованный старикъ.
— Ты не думай, паренекъ,—обратился Антонъ Захаровичъ къ юношѣ,—што я до денегъ то жадный. У меня денегъ то, слава тѣ Господи, самъ ину пору сосчитать не могу, вотъ сколь, мнѣ-то экія то деньги какъ двѣсти рублевъ наплевать, тьфу, говорю! Слышалъ? А запись я беру единственно потому, штобы ты, какъ до наукъ то дойдешь, да обвернешься сюда, такъ и...и...и.., Господи, какъ поди возмечтать о себѣ да съ гордыни то носъ задерешь превыше поди колокольницы, а къ благодѣтелю то, поди, и на порогъ не заглянешь, а вотъ экая то записочка будетъ у меня въ рукахъ, такъ я тебѣ гордыню то и сокращу и прижму тебя ей, што и о благодѣтелѣ вспомнишь, придешь съ поклономъ. Такъ вотъ поди напиши съ отцомъ и приди ко мнѣ, тогды я и денегъ вамъ дамъ.
Молча вышли отъ Антона Захаровича отецъ съ сыномъ. Старикъ шелъ по двору и крестился, держа въ рукахъ шапку, въ глазахъ сына его стояли слезы отъ вынесеннаго униженія.
Старикъ Булановъ—такъ авали водовоза—далъ расписку Антону Захаровичу въ полученіи денегъ и въ обезпеченіе уплаты подписалъ на него избушку, стоящую гдѣ то на краю города и тройку лошадей, благодаря которымъ онъ добывалъ кусокъ хлѣба, возя и продавая воду безлошаднымъ обывателемъ города Т...а. Сынъ его вскорѣ послѣ того уѣхалъ, и доходившіе слухи объ успѣхахъ его въ университетѣ, вызывавшихъ общее вниманіе къ нему со стороны профессоровъ, безконечно радовали старика. Но весною на другой годъ неожиданно пришло извѣстіе, что молодой Булановъ скончался отъ остраго воспаленія легкихъ. Вѣсть эта такъ поразила, старика, что онъ сошелъ съ ума, но это не помѣшало Антону Захаровичу продать у больного старика и домъ, и лошадей въ пополненіе взятыхъ въ долгъ двухсотъ рублей.
И долго послѣ того по городу ходилъ старикъ нищій, собиравшій милостыню и всѣмъ говорившій, что вотъ уже скоро-скоро пріѣдетъ къ нему сынъ.
*****
Къ рисункамъ.
Переселенецъ и его сынъ— сибирякъ. Мы помѣщаемъ этотъ снимокъ съ фотографіи, какъ наглядное свидѣтельство того преобразованія, которое народный темпераментъ претерпѣваетъ на новой почвѣ. Отецъ уроженецъ воронежской губерніи, переселился въ томскую губернію и завелъ усадьбу на такъ называемой Бель-агачской степи близъ Семипалатинска; фотографія снята, когда онъ насчитывалъ уже около сорока лѣтъ сибирской жизни; сынъ его родился уже въ Сибири. Передъ вами крестьянинъ, выдрессированный и покорный, видъ котораго показываетъ, что если самъ не былъ крѣпостнымъ, то прожилъ въ крѣпостномъ обществѣ; рядомъ съ нимъ молодой человѣкъ, который смѣло и съ задоромъ начинаетъ свою жизнь.
Сибирскій крестьянинъ. Картина г-жи Базановой написана масляными красками. Она была выставлена на выставкѣ произведеній художницы въ Томскѣ въ 1901 г. и пріобрѣтена профессоромъ г. Сабининымъ. Картина понравилась и художница принуждена была сдѣлать съ нея нѣсколько копій масляными красками. Нашъ снимокъ сдѣланъ съ рисунка карандашомъ, исполненнаго самой художницей спеціально для нашего изданія.
Двухслойный pdf (текст под картинками)
https://yadi.sk/i/55EV3BqIrHGBP
pdf без маски (текст и картинки)
https://yadi.sk/i/VftdlKI4rHGJi
Двухслойный pdf (текст поверх картинок)
https://yadi.sk/i/Bx-6MlWwrHGGs
— У насъ не будетъ елочки? не будетъ, Миша, или будетъ?!
И крошка дѣвочка большими сѣрыми глазами пытливо глядитъ на брата, стараясь въ темнотѣ разсмотрѣть его лицо; они оба сидятъ на подоконникѣ замерзшаго окна и смотрятъ въ очищенное ото льда мѣстечко на звѣзды, сіяющія въ темнотѣ безлунной ночи.
— Надо спросить Лиду, Танечка! отвѣчаетъ мальчикъ тихимъ печальнымъ голосомъ, Лида ѣздила съ тетей по магазинамъ—она видѣла, что тамъ покупали; а мнѣ—мнѣ не нужно елку безъ мамочьки!
— Миша, Миша... ты, однако, плачешь?
— Дѣвочка жмется къ нему, и маленькая ручка тянется къ его лицу, стараясь отерѣть эти невидимыя слезы.
Мальчикъ гладитъ ее головку одной рукой, откинувъ далѣе свою голову отъ ея личика, и торопливо стираетъ эти слезы, о которыхъ она подозрѣваетъ, горячія жгучія слезы: маленькое сердце его поражено тяжкимъ горемъ, но онъ его скрываетъ, скрываетъ съ того дня, когда папа сказалъ ему: „Миша, ты большой уже... у меня неисцѣлимое горе на сердцѣ; я знаю, что и твое сердце невыносимо болитъ, но мы—мужчины, мы должны беречь нашихъ дѣвочекъ отъ печали: мама просила о нихъ, умирая!“ И онъ, этотъ 9 лѣтній мужчина, свято помнилъ слова отца, онъ всѣми силами старался не показать своего горя, онъ все стараніе прилагалъ, чтобы дѣвочки не чувствовали своего одиночества, и хотя его милое личико такъ похожее на лицо его мамы похудѣло и сузилось, и большіе сѣрые глаза глубоко запали, онъ ни чѣмъ не выдалъ своей тоски... И сестренки, эти маленькіе цвѣтки, пригрѣтые его ласками и ласками отца, по прежнему ясно и весело глядѣли на Божій міръ; зато его больше не ласкали... съ тѣхъ поръ какъ „ее" унесли, ни чья рука не гладила его мягкіе волосы, ни чьи уста не цѣловали его губокъ, и глазъ, какъ цѣловала его она, его мама.
Сегодня онъ не могъ казаться веселымъ: это было выше его силъ; ему вспомнилось прошлое Рождество, такой-же сочельникъ и этотъ самый подоконникъ, а на немъ—онъ съ мамой, съ его дорогой мамой! Танечка и Лида спали, спала и „маленькая," какъ и сегодня; а они говорили,—мама разсказывала ему о Рождествѣ; какъ она хорошо умѣла разсказывать! она и тогда уже кашляла бѣдная, но Миша не зналъ, не думалъ о томъ, что она скоро уйдетъ отъ него. О, если бы зналъ онъ это,—онъ бы не отошелъ отъ нея, онъ-бы такъ и не отнялъ рукъ отъ ея шеи, не отклонилъ головы отъ ея груди...
— Мама... мама!...
— Ты плачешь, Миша?
— Нѣтъ, Танечка, нѣтъ, я не плачу! смотри—вонъ звѣздочки: сегодня Христосъ родился ночью..
— Христосъ, Миша?., къ которому мама ушла?!.. Няня говоритъ, что она смотритъ на насъ съ неба... поглядимъ вмѣстѣ, не увидимъ ли ее! я все гляжу и не вижу ее, только однѣ звѣздочки вижу... Поглядимъ вмѣстѣ, Мишенька?
И она нѣжно прильнула къ нему своей головкой.
— Мы простынемъ, Танечка, тутъ; сегодня очень холодно; нельзя сидѣть долго на окнѣ: папа осердится; онъ, вѣдь скоро пріѣдетъ, нашъ папа... Пойдемъ къ Лидѣ, къ тетѣ: тамъ самоваръ шумитъ, поетъ пѣсенки... Помнишь—такія хорошенькія, о которыхъ мама говорила; она умѣла понимать пѣсенки самовара, она все умѣла, наша милая, милая мамочка!. И опять слезы подступили къ его горлу; положительно онъ не могъ владѣть собою сегодня, и дѣвочка, точно понявъ его своимъ чуткимъ сердечкомъ, притихла и слѣзла съ подоконника.
Тихо сидѣли они за столомъ въ ихъ уютной столовой; тетя хлопотала около него, вынимала изъ красиваго чернаго буфета варенье и блюдечки; лампа свѣтила привѣтливо, и самоваръ пѣлъ свои пѣсни. Но все это было не то, что ранѣе, при мамѣ... — Папочка!!
Свѣтлорусыя головки разомъ повернулись на звонокъ. Это дѣйствительно былъ онъ, усталый, измученный, раздраженный... Тяжелая скорбь жгла ему сердце, и даже, при взглядѣ на эти милыя головки, тучи, лежавшія на его лицѣ, не разгладились...
Вотъ и конченъ вечеръ, дѣвочки ласкаются къ отцу и уходятъ; идетъ и Миша проститься. Отецъ, не смотря на него, роняетъ обычное— „ступай съ Богомъ"—и склоняется надъ работой, которой онъ глушитъ свою тоску... Тихо въ домѣ. Только „маленькая" плачетъ въ дѣтской; но и она затихла, убаюканная няней. Крѣпко заснули дѣвочки и Миша не спитъ: онъ, раздѣтый, завернулся въ легкое одѣяло и сидитъ на окошкѣ; лампадка потухла у образовъ, и въ темнотѣ худенькая фигурка мальчика едва бѣлѣется; никто не увидитъ его, никто не заглянетъ въ эту комнату: вѣдь мамочки нѣту, некому позаботиться о немъ, некому приласкать...
А маленькое сердечко такъ стосковалось о ласкѣ! „Пройти въ гостинную—тамъ лучше звѣзды видно: окна не такъ замерзли... Не глянетъ ли изъ-за звѣздъ мамочка?.."
„Пройду черезъ столовую я тихо, никто не увидитъ!"—несется въ дѣтской головкѣ,—„я могу надѣть Лидины туфельки: онѣ не застучатъ..."
— Божинька милый, добрый, покажи мнѣ мамочку, мою милую, милую мамочку!
Вотъ и гости иная, и окно; съ этой стороны больше звѣздъ видно: какія большія, точно трепещутъ!
— Мамочка дорогая, выгляни изъ-за нихъ: я, Миша, такъ соскучился!.. Мамочка, голубушка, меня никто, никто не ласкаетъ... мнѣ не велятъ плакать, а мнѣ такъ больно удерживаться, я такъ соскучился... милая, слышишь ты меня?!. Боженька! мнѣ не надо елки, не надо игрушекъ, ничего не надо, только пусти ко мнѣ мамочку не надолго, совсѣмъ не надолго: только пусть она меня поцѣлуетъ!
И, обливаясь неслышными слезами, онъ плотно прижимается къ стеклу разгорѣвшимся личикомъ и глядитъ, не отрываясь, своими большими печальными глазами въ темноту звѣзднаго неба, глядитъ до тѣхъ поръ, пока не затуманиваются глаза, и сонъ, этотъ утѣшитель страданій, смыкаетъ ихъ вѣки; улыбка на его губахъ, счастливая, радостная, что ему снится мама; о, несомнѣнно! она пришла къ нему во снѣ въ эту святую ночь: вѣдь онъ такъ просилъ, чтобы ее отпустили!.............
— Миша, голубчикъ, какъ ты напугалъ меня!. Вѣдь, простынешь, захвораешь... Зачѣмъ ты ушелъ сюда, родной мой? пойдемъ—я отнесу тебя въ кроватку!...
Миша раскрылъ глаза и удивленно посмотрѣлъ на отца, осмотрѣлся кругомъ и вдругъ началъ рыдать, крѣпко закрывъ личико обѣими руками; слезы катились сквозь тонкіе пальчики, все его худенькое тѣло тряслося въ рукахъ отца, а тотъ крѣпко прижималъ его къ себѣ и шепталъ испуганно;
— Миша, милый! да о чемъ-же ты? что съ тобою, скажи мнѣ ради Бога?!
— Папочка! я маму... я маму звалъ... она глядѣла на меня изъ-за звѣздочекъ, я просилъ ее приласкать меня, я хотѣлъ съ ней поплакать, а ты меня разбудилъ!
Я такъ соскучился, папочка! я не могу не плакать, я не могу терпѣть... о, моя мамочка, милая, моя дорогая мама!..
Вся боль его сердца, истосковавшагося по ласкѣ, сказалась въ этихъ слезахъ; онъ ждалъ ее съ неба, изъ-за звѣздъ, въ ту ночь, когда другія дѣти ждутъ игрушекъ и лакомствъ; о ней надрывалась его душа, полная не дѣтскаго горя! И отецъ понялъ это.
— Мальчикъ мой!.. бѣдное маленькое сердечко!
Что-то жгучее, горячее упало на дѣтскій лобикъ; еще, еще... слезы отца смѣшались со слезами ребенка, губы отца, горячія, вздрагивающія, цѣловали его личико, и эти поцѣлуи снимали то тяжкое, невыносимое, что давило грудь Миши.
— Папочка, я могу плакать?.
— Можешь, мой маленькій, мой бѣдный! мы вмѣстѣ будемъ плакать о мамѣ.
Я знаю теперь, что нужно моему мальчику: слезы и ласку... И я тебя буду ласкать за себя и за маму... тебѣ легче?! Мама видитъ насъ вмѣстѣ, она смотритъ на насъ, хотя мы ее и не видимъ, вонъ изъ за тѣхъ звѣздъ!
— И они оба полными слезъ глазами глядятъ
въ темноту ночи, крѣпко прижимаясь другъ къ другу; они чувствуютъ огромное облегченіе, раздѣленное горе не падаетъ гнетомъ на ихъ измученныя сердца.. А имъ съ высоты, словно радуясь за нихъ, ласково мерцала звѣзды, ночь глядѣла на нихъ своими очами. Та ночь, въ которую родился Христосъ!..............
II.
— И въ этакую-то бурю, Ѳедосей, парненку шлешь?!., съ покорнымъ упрекомъ говорила мужу небольшая полная женщина.—Ну, киргизы привышные, а Петяйка зазнобится; да и подъ праздникъ охота въ церковь ему—самъ знашь: пѣвчій онъ!..
— Што я виноватъ, што ли? огрызается Ѳедосей, худощавый, маленькій, болѣзненный мужикъ,—кого вмѣсто него пустить-то: однѣ подводы въ Сякисовку Кондобайка увезъ, Бекетая послалъ до Мелкой съ сотскими, Чуканъ одинъ да я... Петяйки не впервой возить...
Што-не справится штоли съ парою? чѣмъ я виноватъ, што хворость задавила проклятая, а тутъ этихъ. лѣшій нагналъ въ такую ночь, прости ты меня, Господи! ворчитъ исшо! рази мнѣ самому охота парнишку посылать?! эхъ, горе—жизнь наша ямщицкая!
— Скорѣе! торопили на дворѣ два десятскихъ, прибѣжавшіе съ земской, баринъ торопится, писаришки загадилъ насъ: иешо ногами топаетъ, будь онъ проклятъ!
И, кашляя и стоная, принялся онъ натягивать халатъ на свои худыя плечи.
— А гляди, ребята, буранъ то какъ дурить: однако буря будетъ?!..
Вѣтеръ, дѣйствительно дулъ холодными рѣзкими порывами, вздымая тучи снѣгу съ горъ и нанося ихъ на село, пріютившееся у ихъ подножія. Темнота. Ни одной звѣзды не сіяло на небѣ, покрытомъ тучами. Фонари тускло свѣтили у крыльца, лошади, которыхъ проворно хомутали, фыркали и жались другъ къ другу.
— Эхъ, горе,—наше ямщицкое! ворчалъ Ѳедосей...
Петяйка ты, родимый, крѣпче одѣнься, теплѣе!—совѣтовалъ онъ мальчику лѣтъ 11-ти— пи шь холодаетъ, вѣтрище подымается... Чуканъ, ты поглядывай на него; назадъ ворочаться будете—въ повозку посади его; да дорогой не спи, Чуканъ, а то гляди и до грѣха недалеко, коли проспишь.
— Што ты, козяинъ, мы привышна! —откликнулся немолодой киргизъ, влѣзавшій уже на козлы повозки. Эй, Петяй, за мной! я, козяинъ, ему дьячка запрегъ; онъ не отстанетъ отъ моихъ коней!...
— Ну, съ Богомъ, коли такъ. На земскую теперь... да ты, Чуканъ, половчѣе подавай: знаешь самъ-то не любитъ неаккуратности.. штобъ живо, и кони не пошевелились... Оборони Боже лягаться!
— Осподь съ тобой, Петяйка!... ступай, желанный, въ добрый часъ! сказала мать, вышедшая на крыльцо съ фонаремъ въ рукахъ, не отставай!
— Чуканъ голубчикъ, не отпускай его отъ себя!
— Ладно, козяйка, ладно! трогай!..
И повозка Чукана и кошевки Петяйки одновременно выѣхали со двора.
— Къ полночи вернутся! промолвилъ хозяинъ: поспѣетъ еще къ службѣ Петяйка нашъ! десятники сказывали—сичасъ 8-й часъ; до Березники 7 верстъ, они льдомъ поѣдутъ, Иртышомъ.., долго-ли оборотиться, только-бы буранъ полегчалъ!...
А онъ не легчалъ, этотъ буранъ: на степи это было сильнѣе замѣтно; онъ точно гигантское чудовище съ огромными крыльями наскакивалъ сзади на повозку, осыпалъ кошевку снѣгомъ и несся, обгоняя ихъ; снѣжныя волны перекатами катились черезъ головы путниковъ, осыпали лошадей, за ними съ новымъ порывомъ вѣтра неслись новый волны. Было холодно. Петяйка вздрагивалъ, не смотря на теплую шубу и халатъ, надѣтый подъ нею. Мать заботливо укутали его шарфомъ, шапка на мѣху покрывала его маленькую бѣлокурую голову, но снѣгъ забирался вездѣ, за шею, въ уши, и когда мальчикъ обернулся назадъ, его сердечко сжалось невольнымъ страхомъ: такая страшная темнота густѣла тамъ, и ни одного огонька не глянуло на него изъ окошекъ оставленнаго села. Поднятыя вѣтромъ снѣжныя волны закрыли ихъ отъ его глазъ.
Маленькія привычныя руки умѣли править лошадьми; да сегодня онѣ и сами бѣжали безъ управленія вслѣдъ зa передней парой, вытянувъ по вѣтру морды и часто фыркая, привычная дорога была имъ слишкомъ знакома. Петя даже вожжи опустилъ и задумался: онъ любилъ лошадей, любилъ поѣздки; онъ, не тяготился своей долей, но сегодня ему не хотѣлось ѣхать... охъ, какъ нс хотѣлось! „Кабы не тятька больной—уперся-бы онъ и не поѣхалъ, а то тятьку жаль... а безпремѣнно къ службѣ опоздаемъ, и начнется безъ него эта торжественная служба"!..
А онъ такъ любить пѣть въ церкви: его голосъ чистый и красивый ясно выдѣляется въ хорѣ. Евгеній Иванычъ-регентъ любилъ его за пѣніе, и батюшка всегда такъ ласково гладитъ курчавую головку Пети, и такъ хорошо улыбаются мальчику его губы. Давеча Петя забѣгалъ въ церковь—хорошо тамъ: огромныя иконы въ красивыхъ кіотахъ кротко смотрѣли на него, лампады горѣли передъ ними, красивая розовая церковь, казалось, радовалась празднику, а тамъ, на клиросѣ лежали новыя ноты, по которымъ они будутъ нѣть пѣснь рождества, прекрасную пѣснь, только что разученную съ ними Евгеніемъ Ивановичемъ. Ему сейчасъ захотѣлось запѣть ее, и потихоньку началъ было, но его строго окрикнулъ сѣдокъ.
— Эй, ты, пѣвецъ! гляди лучше въ оба: полыньи эти проклятыя кругомъ—еще утопишь!— переднихъ видно?
— Вонъ они, баринъ! показалъ мальчикъ кнутовищемъ бича
— Что-же колокольцевъ не слышно?
— Буря относитъ!., близко они, да и до Березянки не далеко. За гору заворотимъ—видать будетъ!
И опять молчаніе, только колокольцы уныло позвякивали подъ дугою.
Березянка замелькала рѣдкими огоньками; ссадили сѣдоковъ и завернули коней. Петя залѣзь въ повозку и прикорнулъ въ уголкѣ. Чуканъ привязывалъ сзади его пару и разговаривалъ съ ямщикомъ и его работниками, онъ прямо привезъ проѣзжающихъ на земскую, и имъ тоже торопливо запрягали лошадей.
— Переночевалъ-бы—совѣтовали Чукану,— гляди буранъ раздурѣлся на грѣхъ...
— Козяинъ вернуться велѣлъ: дома некому... доѣдемъ, Петяйка въ церква собирался! пояснялъ Чуканъ.
— Въ церкву?.. дай Богъ къ свѣту домой-то добраться!., ты вотъ што, Чуканъ,—коли ужъ ѣхать, такъ степью, а не рѣкой поѣзжай: тамъ есть дорога —знаешь, вѣть, маленько дале, зато опаски нѣтъ: въ полынью не попадете... оборони
Боже рѣкою; теперь, перво, темень, а второе страшный вѣтеръ!..
— Ладно... прошшай! ну, ну! И Чуканъ хлеснулъ лошадей, не хотѣвшихъ идти.
— Ой, Чуканъ, не ѣзди: скотина не идетъ съ мѣста —недобро чуетъ... Я своимъ велю нa станкѣ ночевать. Куда кидаться противъ вѣтришша экого; ты гляди—здѣсь што, а на степи теперь—погибель!..
— Козяннъ велѣлъ! — упрямо повторилъ Чуканъ и хлеснулъ лошадей сильнѣе. Тѣ не охотно тронулись, уныло позвякивая колокольцами.
Петяйка не принималъ участія въ разговорѣ; пригрѣтый кочмою и закрытый заметонъ, онъ задремалъ и движеніе повозки и звонъ колокольцевъ, и порывы вѣтра не разбудили его. Лошади осторожно опустились, къ рѣкѣ, переѣхали до слѣдующаго берега и прямо повернули къ вѣтру, встрѣтившему ихъ такимъ яростнымъ порывомъ, что онѣ сразу остановились.
Буря разрасталась, волны снѣга, подымаясь, слѣпили глаза лошадямъ и ямщику, но Чуканъ- старый степной волкъ—не сдавался: онъ усиленно погонялъ лошадей среди завыванья вѣтра и снѣжныхъ перекатовъ. Повозка съ трудомъ подвигалась впередъ, темнота густѣла; ничего не видно было въ двухъ шагахъ. Киргизъ опустилъ вожжи, довѣряясь инстинкту животныхъ, и онѣ тихо подвигались впередъ... а время шло: проходили часы, долгіе въ атомъ одиночествѣ, среди хаоса бури. Они должны были доѣхать но времени, но и признака жилья не было видно; тьма впереди, тьма сзади, вверху, внизу. Лошади выбивались изъ силъ, но все-же передвигали ноги. Вотъ коренная ступила и повисла одною ногой надъ пространствомъ, разомъ открывшемся передъ нею; отъ этого толчка повозку слабо тряхнуло. Чуканъ едва удержался на козлахъ, изо всей силы натянувъ вожжи.
— Не рѣка-ли, не въ полынью-ли попали? мелькнуло въ его головѣ.
И, осторожно слезши съ козелъ, онъ началъ шарить руками землю въ этой непроглядной тьмѣ.
Лошадь одною ногою висла надъ ямой, но это была не полынья; киргизъ сползъ съ откоса. „Яма или логъ, но не полынья!"—рѣшилъ онъ, опять добрался до лошадей и началъ распрягать коренную.
— Что это, Чуканъ, пріѣхали?!—спросилъ проснувшійся Петя и выглянулъ изъ повозки. Голосъ его отнесло порывомъ вѣтра. Чуканъ не слыхалъ его, продолжая возиться возлѣ лошадей, но мальчикъ и самъ понялъ, что они не дома; откинувъ засыпанный снѣгомъ заметъ, онъ ощупалъ козлы. Чукана не было. Испугъ овладѣлъ Петей но сейчасъ-же и разсѣялся: киргизъ ощупывалъ повозку; зафыркала лошадь, которую онъ привязалъ подъ вѣтеръ.
— Петяй не спить?
— Пѣть, нѣть... гдѣ мы?..
— Аллахъ знаетъ! дорога не видно, сбились съ дорогамъ... свѣтъ нѣть, конь присталъ; снѣгъ ждать будемъ—може не замерзнемъ... Я къ тебѣ, Петяй!
— Иди ближе, садись,—теплѣе будетъ... конямъ вотъ горе.
Киргизъ сѣлъ возлѣ мальчика и закрылся заметомъ. Они крѣпко прижались другъ къ другу. Буря достигла до высшей точки своего могущества, съ дикимъ свистомъ несла она надъ ихъ головами снѣжныя волны, засыпая ими повозку; вѣтеръ проникалъ черезъ ея верхъ, забирался въ комму и подъ шубы и леденилъ ихъ тѣла.
— Бѣдные, бѣдные кони!—говорилъ Петя,—замерзнутъ они!..
— Замерзнутъ, Петяй,—невозмутимо соглашался киргизъ,—и мы замерзнемъ, коли заснемъ... не спи, Петяй, говорить будемъ, помирать неохота... заснемъ—помремъ; я старый, а помирать не надо, а ты молодой—тебѣ совсѣмъ не надо... Говори, Петяй! Пѣсни пой, только не спи.
И кригизъ самъ затянулъ что-то заунывное, похожее на вой вѣтра въ трубѣ, на волчье завыванье. Эти звуки нагоняли тоску, щемили дѣтское сердце, пугали его...
— Чуканъ!
— Што, Петяй?
— Не пой: я боюсь!
— Боишься? чего боишься?!. Чуканъ любитъ тебя... бури боишься?!
— Боюсь, бурю боюсь, пѣсни боюсь....
Страшно!..
— Не бойся, Петяй: я съ тобой! ближе ко мнѣ иди подъ шубу; я опояска растяну. Тебѣ холодно?
— Холодно!
Чуканъ растянулъ опояску, распахнуть свою баранью шубу и, взявъ ребенка на руки, запахнулъ ее опять.
— Сиди, Петяй, такъ тепло будетъ...
Аллахъ помогай будетъ! Я буду Аллаха молить, а ты моли вмѣстѣ: Аллахъ у тебя—Аллахъ у меня... Ты Христа проси, Мнколай проси,—я тоже просить буду... завтра болыша ваша день Рожества... Молись, Петяй!
И киргизъ забормоталъ что-то горячо, убѣдительно по своему, а Петя съ чувствомъ жгучаго страха прислушивался къ дикому свисту бури,
среди котораго не слышно было даже словъ молитвы Чукана.
— Чуканъ, засыплетъ насъ, засыплетъ снѣгомъ... Погинемъ мы, Чуканъ!
И, не слыша отвѣта, ребенокъ затихъ, опять прислушиваясь къ хаосу звуковъ. Тоска растетъ и ширится въ его сердцѣ, холодъ знобить, хотя руки киргиза крѣпко прижимаютъ его.
— Петяй!
Онъ крикнулъ громко, но мальчикъ едва услышалъ его.—Петяй, помолись ты... я молился...
Что-то дрогнуло въ сердцѣ Пети: просьба киргиза, въ которой звучало отчаяніе, подняла теплое чувство въ его душѣ.
— Господи, спаси насъ! слетѣло съ его устъ горячимъ порывомъ, и вмигъ забывъ страхъ и тоску, онъ сталъ шептать холодѣющими губами: Спаси, Господи, не погуби, оборони отъ смерти, помоги живыми встрѣтить Твое Рождество! Онъ молился за себя и киргиза, забывъ что тотъ „искрещенная собака", парія, жизнь котораго ничего не значитъ; для него это былъ другъ, дѣлившій съ нимъ смертельную опасность и онъ молился за него.
— Господи, спаси насъ съ Чуканомъ, вызволи, не дай погинуть!
И киргизъ, ловя его слова среди порывовъ вѣтра и свиста бури, повторялъ за нимъ:
— Не дай погинуть!.. Кристусъ, не дай погинуть, оборони отъ смертямъ!..
— Чуканъ, слышишь?—Мальчикъ схватилъ его за руку.—Слышишь, Чуканъ?!.
— Слышу, Петяй, слышу!..
Словно въ отвѣтъ на ихъ молитву, втеръ принесъ къ нимъ ясный отчетливый звукъ колокола, торжественнымъ аккордомъ прозвучавшій среди хаоса бури... одинъ, другой, ударъ за ударомъ; много ихъ плыло имъ навстрѣчу, громкіе, торжественные, радостные... киргизъ чутко слушалъ.
— Петяй,—радостно заговорилъ онъ,—Петяй, вѣдь это наша колоколъ, вѣдь избамъ близко; вылѣзай, Петяй: это не ровъ—это берегъ... Иртышъ перѣехать,—и дома будемъ... Я пойду, отвяжу кошевку... Петяй, мы туды сядемъ, „дьячь- ка“ пущу: онъ домъ знаетъ... Спасибо твоему Богу: онъ насъ позвалъ, вѣтеръ... Мы бы замерзли, Петяй!
И, торопливо отстегнувъ заметъ, онъ съ трудомъ открылъ его, отваливъ кучи снѣга. Буря по прежнему бушевала, донося звуки благовѣста; вѣтеръ сбивалъ ихъ съ ногъ, осыпая снѣгомъ, но они теперь не боялись его... Съ трудомъ вывели полузанесенныхъ коней и освободили кошевку, спустивъ ее съ крутого, но невысокаго яра, который давеча приняли за оврагъ;
они сѣли въ нее и пустились по звону, предоставивъ лошадямъ пробираться самимъ черезъ рѣку. Оба молчали, напряженно молчали, и только, когда благовѣстъ зазвучалъ совсѣмъ близко, лошади стали подыматься въ гору, и передъ ними сквозь бурю и снѣгъ замелькали огоньки избушекъ, оба они облегченно вздохнули и разомъ—и русскій мальчикъ-христіанинъ и киргизъ сняли,—одинъ свою мѣховую шапку, а другой громадный киргизскій малахай, —подняли лица къ небу; не смотря на вѣтеръ и бурю, каждый по своему, они творили молитву, благодарную молитву Христу за избавленіе отъ гибели. Падь ними по прежнему неслись тучи снѣга, обжигая имъ лица; тутъ близко съ высокой колокольни гудѣли колокола, темная ночь глядѣла имъ въ глаза, „та ночь, въ которую родился Христосъ"...
*****
Благотворитель.
(Изъ ненапечатанныхъ разсказовъ Н. И. Наумова).
Антонъ Захаровичъ Вересаевъ, только что вставъ и сотворивъ утреннюю молитву, сидѣлъ въ столовой комнатѣ своего богато убраннаго дома за круглымъ столомъ, на которомъ пыхтѣлъ, выпуская густые клубы пара, объемистый самоваръ. Антонъ Захаровичъ только что овдовѣлъ и въ горести по своей нѣжно любимой супругѣ возвращался каждый день изъ компаніи своихъ друзей настолько въ разстроенномъ душевномъ состояніи, что ночью двое дворниковъ— могучихъ парней съ трудомъ поднимали его по высокой лѣстницѣ и сдавали на попеченіе Архипа, сѣдовласаго прикащика, исполнявшаго по дому обязанности и экономки, и горничной.
Сидя за столомъ, въ поношенномъ ситцевомъ халатѣ, Антонъ Захаровичъ морщился, кряхтѣлъ, почесывалъ затылокъ и смаковалъ языкомъ непріятный вкусъ во рту, который на языкѣ людей, любящихъ хорошо поѣсть вечеромъ, а особенно выпить, называется „точно эскадронъ во рту ночевалъ". Антонъ Захаровичъ былъ купецъ, считавшійся въ г. Т. крупно богатымъ человѣкомъ и жертвователемъ на богоугодныя заведенія, за что имѣлъ различнаго объема нѣсколько золотыхъ медалей, коими украшалъ свою шею по праздничнымъ днямъ. Пожертвованія Антона Захаровича, помимо усердія его къ храмамъ, немало содѣйствовали тому, что чуть не десятки дѣлъ, имѣющихъ уголовный характеръ, возбужденныхъ противъ него по поводу различныхъ якобы противозаконныхъ продѣлокъ по подрядамъ съ казной и частными лицами, не двигались впередъ, а служили только пугаломъ, для устраненія котораго то въ той, то въ другой церкви вырастали новые придѣлы, въ коихъ и воздавали хвалу созидателю ихъ Антону Захаровичу Вересаеву.
— А къ вамъ, батюшка Антонъ Захаровичъ, водовозъ нашъ о чемъ-то помучиться хочетъ, просилъ доложить вашей милости,—произнесъ Архипъ, подавая огромную фарфоровую чашку съ чаемъ, на которой красовалась надпись: „ну-ка, выпей другую".
— Чего ему надоть?
— Богъ его знаетъ, не сказывать, должно быть, поди, дѣло же есть. Безъ дѣла то, поди, не посмѣлился бы тревожить экую особу, какъ ваша милость.
— Ну, зови, послушаемъ, какое у водовоза дѣло стрѣлось,—произнесъ хриплымъ голосомъ Антонъ Захарычъ, наливъ на блюдце чаю, крестообразно подувъ на него и сглотнувъ его почти безъ передышки, протянулъ „а-а-ахъ" и полизалъ языкомъ сѣдые усы свои.
Черезъ минуту въ комнату вошелъ старикъ крестьянинъ въ смуромъ армякѣ, усѣянномъ заплатами и въ старенькихъ бродняхъ. Войдя въ комнату, онъ помолился на передній уголъ, установленный иконами въ богатыхъ золотымъ окладахъ и затѣмъ, низко поклонившись Антону Захаровичу, молча сталъ у притолоки, поглядывая своими слезящимися глазами на грузную фигуру Антона Захаровича. Во взглядѣ старика было столько глубоко затаенной грусти и мольбы, что всякій другой на мѣстѣ Антона Захарина по одному выраженію въ глазахъ старика вонялъ бы, какое горе щемитъ его душу.
— Чего тебѣ надоть отъ меня, говори?—мелькомъ взглянувъ на него, спросилъ Антонъ Захаровичъ.
— Милости, батюшка, милости.—Старикъ глубоко вздохнулъ.
— Какой же тебѣ милости, ну, сказывай, денегъ, поди взять; душу нашего брата за однимъ дѣдомъ только и маютъ всѣ.
— Денегъ, родимый, вѣрно ты вымолвилъ.
— Ужъ я ль ошибусь, слава тебѣ, Господи, шестой десятокъ на свѣтѣ то коротаю. Много-ль тебѣ?
— Рублевъ бы двѣсти, родной, занадобилось.
— Двѣ-ѣ-ѣсти, хе, не мало! Ну на што жъ тебѣ экую напасть то денегъ-то надо? сказывай, да не лукавь мотри, я вѣдь прозорливецъ, съ одного взгляда увижу облыжность твою.
— Пошто лукавить, милостивецъ, по душѣ тѣ обскажу. Все сынокъ у меня, сынкомъ меня Богъ наградилъ, такъ одного будто только на поглядочку и далъ намъ со старухой; и таковой то это у насъ онъ догадливый, до всего то это умомъ бы ему дайти надоть, што диво, диво, говорю; диву Начальство то дается!
— Какое такое начальство?
— А вотъ слушай, говорю, благодѣтель, да и суди самъ. Обучали это мы его въ уѣздномъ училищѣ; только вотъ смотритель то уѣзнаго училища, покойная теперь головушка, пошли ему Господь небесное царство, призвалъ это меня къ себѣ и обсказывать, такъ и такъ, говоритъ, старичокъ, наградилъ тебя Господь счастьемъ въ сынѣ твоемъ, самороднымъ тала- номъ, говоритъ, усчастливилъ, ну мотри же, говоритъ, блюди его, не ставай ему поперекъ дороги, ужъ какъ никакъ въ жилу вытянись да въ еминазію отдай его, а я тебѣ помогу, говоритъ, въ эфтомъ. Ну и точно, родной мой, помогъ онъ мнѣ опредѣлить его въ еминазію, ужъ тяжело мнѣ, Господь одинъ видѣлъ, содержать его въ еминазіи, но скрѣпился, не допивалъ, не доѣдалъ, а далъ ему покончить ученье, кончилъ, медаль вѣдь, родимый, получилъ, на ахтѣ ихнемъ архерей его золотой иконой благословилъ, слышь-ко, мужичьяго сына экой наградой, не радость ли!, и старикъ заплакалъ.
— Молись, никто какъ Господь усчастливилъ, не возгордись только.
— Што ты, родной мой, намъ ли гордость то налущатъ на себя! Ну вотъ, обскажу тебѣ, и приступи это ко мнѣ сыночекъ, пусти да пусти меня, тятенька, въ столицу, говоритъ, въ ниверситетъ учиться, осчастливлюсь, говоритъ, я и тебя съ матушкой на старости лѣтъ успокою, хочу, говоритъ, всякое ученье произойти. «Другіе то всѣ говорятъ, учителя то штоись, экому, говорятъ, талану грѣшно поперекъ дороги встать, а мочи то у меня нѣтъ. Подумалъ, подумалъ я, батюшка, да и порѣшилъ, што ужъ стало быть, предѣлъ ему такой отъ Бога положенъ, сынку то, всяку науку знать, такъ статочно ли дѣло супротивъ божьей то воли идти, снарядить то его въ науку то моченьки, вишь, нѣту, достатковъ, такъ “ужъ вызволь, дай ты мнѣ двѣсти Рублевъ снарядить его въ науку, вѣкъ твой богомолецъ буду и плательщикъ, такъ ужъ по грошикамъ, по грошикамъ, какъ никакъ сколочусь да уплачу ихъ тебѣ, вызволь!—и старикъ, упавъ на колѣни, поклонился Антону Захаровичу въ ноги.
— А ты у другихъ то купцовъ побывалъ у кого, аль нѣтъ? Вѣдь я, поди, чай не одинъ здѣсь! а?.
— Побывалъ, родимый, побывалъ.
— Дали?
— Кабы дали, такъ неужъ бы тревожилъ твое степенство. Не даютъ, у насъ, говорятъ, на науку нѣтъ денегъ, мы, говоритъ, этимъ баловствомъ не займуемся, штобы на науку денегъ давать. Поди вонъ, говорятъ, къ Антону Захаровичу, къ твоей милости, стало быть, у него, говорятъ, супружница Богу душу отдала, такъ, можетъ, съ горя то на поминъ души ея и дастъ тебѣ.
— Ты и пошелъ?
— Ну, послушался ихъ, дошелъ до твоей милости.
— Трудился то за напрасное идти то. Жаль, право, мы тоже зря денегъ не подаемъ; по двѣсти то рублей на поминъ души станемъ класть, такъ и на поминъ своей ничего не оставимъ.
Иди съ Богомъ, поищи, можетъ и найдешь экого шального, што на учебу денегъ дастъ.
— Такъ ужъ не будетъ милости?—тоскливо спросилъ старикъ.
— Нѣту, нѣтъ, не будетъ, подь со Христомъ.
Архипъ, дай-ка ужъ гривенникъ ему, пускай
помолится за успокой души Матрены-то Карповны.
— Не надоть, родимый, не траться, я вѣдь не нищій,—обидчиво Отвѣтилъ старикъ, —прости, што покучился тебѣ,—и тряхнувъ шапкой, старикъ направился къ двери.
— Стой-ка, стой ужо! неожиданно окликнулъ его Антонъ Захаровичъ.
Старикъ остановился.
— Подь-ка ужо, приведи-ка ко мнѣ молодца-то своего, слышь, сына-то, я ужо погляжу, какой онъ такой по нашимъ мѣстамъ выискался, што всяку науку знать хочетъ?
— Да на што онъ тебѣ, кормилецъ, сынокъ то мой? остановившись, съ боязнью въ голосѣ спросилъ старикъ.
— Веди, погляжу, говорю, на него, можетъ исшо и въ милость войду, денегъ дамъ.
Старикъ почесалъ въ затылкѣ и вышелъ. Антонъ Захаровичъ долго сидѣлъ молча по уходѣ его, барабаня по временамъ пальцами по столу и наконецъ отрывочно заговорилъ, хотя сидѣлъ и одинъ, такъ какъ Антонъ съ тряпкой въ рукѣ стиралъ пыль въ сосѣдней комнатѣ: Гляди-ко-сь, а? ужъ сынъ мужика водовоза, што и цѣна то грошъ, въ науку лѣзетъ, а? ну и времячко подошло! Какъ жить то станемъ, какъ всѣ то учены будутъ, а?
— Антонъ! вдругъ крикнулъ онъ.
— Чего изволите?—откликнулся тотъ.
— Ты у меня мотри, за парнями въ лавкѣ поглядывай, а то исшо и они не задурѣли бы, не пошли бы учиться.
— Не задурятъ, Антонъ Захаровичъ, небось, не такіе люди, вотъ стянуть чего—это точно по ихъ статьѣ, эту науку они знаютъ, а такъ, штобы книжкой заразиться—энтого опасаться нечего.
— To-то, мотри, говорю, поглядывай.
Прошло не болѣе часа, какъ старикъ водовозъ вернулся вмѣстѣ съ сыномъ, которому на видъ нельзя было дать болѣе восемнадцати лѣтъ. Лицо его, слегка тронутое оспой, было чрезвычайно миловидно. Въ голубыхъ глазахъ юноши свѣтилась мысль и вмѣстѣ съ тѣмъ въ нихъ просвѣчивала грусть, вѣроятно, отъ сознанія той униженности, какую онъ долженъ былъ безропотно выносить ради того, чтобы достигнуть той высокой цѣли, къ какой онъ стремился.
Войдя въ комнату, молодой человѣкъ вѣжливо поклонился Антону Захаровичу, который, не отвѣтивъ ему на поклонъ, пытливо осматривалъ его.
— Энтотъ и есть паренекъ то у тебя, што до наукъ охочъ?
— Энтотъ самый, батюшка.
— Ну, паренекъ, хошь ты тамъ и заробилъ ужь медаль себѣ, а не взыщи съ меня, старика,. што я съ тобой по просту рѣчь веду.
Гордыню то да мечтанья о себѣ пока въ задній карманъ положь; вы вѣдь нынѣшніе то, слыхалъ я, и Бога то не признаете.
— Науку то вотъ хошь произойти, а молитвы то господни знаешь ли, а?
— Знаю,—слегка улыбаясь отвѣтилъ юноша.
— А, ну-ко-сь, ну-ко-сь попытаемъ, скажи ты мнѣ „вѣрую".
Молодой человѣкъ прочиталъ требуемую молитву.
— А..а, да ты и въ самомъ дѣлѣ никакъ путный, а ну-ка „вотчу нашъ".
Онъ прочиталъ и „отче нашъ".
— Да изъ тебя, парень, и то никакъ, прокъ выйдетъ.
— А „царю небесный„ и „богородицу" знашь?
Тотъ прочиталъ и „царю небесный", и молитву Богородицѣ.
— Ну, паренекъ, теперь я вижу, что ты помнишь Бога, не возмечталъ о себѣ, за это вотъ тебя Господь и усчастливилъ. А куда же ты ѣхать то хошь?
— Въ Петербургъ, въ университетъ.
— Далеко же ты, парень, летѣть хошь! А какихъ же ты наукъ тамъ происходить хочешь?
— Юридическія.
— Это какія же стало быть по нашему то, будто какъ ихъ по-русски то обозвать?
— Юристами называются судьи въ судахъ, къ примѣру сказать, прокуроры.
— Э...э...э, вонъ какъ! Ну, парень, не хвалю, экимъ наукамъ-то и помогать опасно. Ты што-жъ послѣ науки то сюда обернешься, а?
— Сюда думаю.
— Не грабь, мотри, какъ чиновникомъ-то пріѣдешь, слышь; нѣть тебѣ экого завѣту моего, штобъ взятки брать, нѣтъ!
— Взятки брать подло и противозаконно и я никогда себѣ подобныхъ поступковъ не позволю, не опасайтесь.
— Подло, подло, это вѣрно ты сказалъ. Ты, я вижу, парень съ толкомъ, экихъ то я люблю. Я помогу тебѣ, слышь ты это, помогу. Ты поэтому и цѣни меня. Наши вѣдь купцы-то остолопы, а я не такой, я вотъ дамъ тебѣ двѣсти рублей, доходи до науки, только пусть отецъ твой напередъ записку экую дастъ, что безперечь заплатитъ мнѣ эти деньги.
— Дамъ, батюшка, дамъ, какую хошь запись,— отвѣтилъ кланяясь обрадованный старикъ.
— Ты не думай, паренекъ,—обратился Антонъ Захаровичъ къ юношѣ,—што я до денегъ то жадный. У меня денегъ то, слава тѣ Господи, самъ ину пору сосчитать не могу, вотъ сколь, мнѣ-то экія то деньги какъ двѣсти рублевъ наплевать, тьфу, говорю! Слышалъ? А запись я беру единственно потому, штобы ты, какъ до наукъ то дойдешь, да обвернешься сюда, такъ и...и...и.., Господи, какъ поди возмечтать о себѣ да съ гордыни то носъ задерешь превыше поди колокольницы, а къ благодѣтелю то, поди, и на порогъ не заглянешь, а вотъ экая то записочка будетъ у меня въ рукахъ, такъ я тебѣ гордыню то и сокращу и прижму тебя ей, што и о благодѣтелѣ вспомнишь, придешь съ поклономъ. Такъ вотъ поди напиши съ отцомъ и приди ко мнѣ, тогды я и денегъ вамъ дамъ.
Молча вышли отъ Антона Захаровича отецъ съ сыномъ. Старикъ шелъ по двору и крестился, держа въ рукахъ шапку, въ глазахъ сына его стояли слезы отъ вынесеннаго униженія.
Старикъ Булановъ—такъ авали водовоза—далъ расписку Антону Захаровичу въ полученіи денегъ и въ обезпеченіе уплаты подписалъ на него избушку, стоящую гдѣ то на краю города и тройку лошадей, благодаря которымъ онъ добывалъ кусокъ хлѣба, возя и продавая воду безлошаднымъ обывателемъ города Т...а. Сынъ его вскорѣ послѣ того уѣхалъ, и доходившіе слухи объ успѣхахъ его въ университетѣ, вызывавшихъ общее вниманіе къ нему со стороны профессоровъ, безконечно радовали старика. Но весною на другой годъ неожиданно пришло извѣстіе, что молодой Булановъ скончался отъ остраго воспаленія легкихъ. Вѣсть эта такъ поразила, старика, что онъ сошелъ съ ума, но это не помѣшало Антону Захаровичу продать у больного старика и домъ, и лошадей въ пополненіе взятыхъ въ долгъ двухсотъ рублей.
И долго послѣ того по городу ходилъ старикъ нищій, собиравшій милостыню и всѣмъ говорившій, что вотъ уже скоро-скоро пріѣдетъ къ нему сынъ.
*****
Къ рисункамъ.
Переселенецъ и его сынъ— сибирякъ. Мы помѣщаемъ этотъ снимокъ съ фотографіи, какъ наглядное свидѣтельство того преобразованія, которое народный темпераментъ претерпѣваетъ на новой почвѣ. Отецъ уроженецъ воронежской губерніи, переселился въ томскую губернію и завелъ усадьбу на такъ называемой Бель-агачской степи близъ Семипалатинска; фотографія снята, когда онъ насчитывалъ уже около сорока лѣтъ сибирской жизни; сынъ его родился уже въ Сибири. Передъ вами крестьянинъ, выдрессированный и покорный, видъ котораго показываетъ, что если самъ не былъ крѣпостнымъ, то прожилъ въ крѣпостномъ обществѣ; рядомъ съ нимъ молодой человѣкъ, который смѣло и съ задоромъ начинаетъ свою жизнь.
Сибирскій крестьянинъ. Картина г-жи Базановой написана масляными красками. Она была выставлена на выставкѣ произведеній художницы въ Томскѣ въ 1901 г. и пріобрѣтена профессоромъ г. Сабининымъ. Картина понравилась и художница принуждена была сдѣлать съ нея нѣсколько копій масляными красками. Нашъ снимокъ сдѣланъ съ рисунка карандашомъ, исполненнаго самой художницей спеціально для нашего изданія.
Двухслойный pdf (текст под картинками)
https://yadi.sk/i/55EV3BqIrHGBP
pdf без маски (текст и картинки)
https://yadi.sk/i/VftdlKI4rHGJi
Двухслойный pdf (текст поверх картинок)
https://yadi.sk/i/Bx-6MlWwrHGGs
Показать спойлер
Саша!
Ты делаешь огромную и важную работу. Более того = интересную (лично мне).
НО! От прочтения ... особенно о личностях.. такая грусть накатывает... такой генофонд был и так бездарно его просрали... даже не грусть, а тоска ((
Сжалься. Сделай перерыв.
Ты делаешь огромную и важную работу. Более того = интересную (лично мне).
НО! От прочтения ... особенно о личностях.. такая грусть накатывает... такой генофонд был и так бездарно его просрали... даже не грусть, а тоска ((
Сжалься. Сделай перерыв.
ТОП 5
2
3
4